Некогда, в стародавние времена, по телевизору шли передачи о внушаемости. Человека спрашивали, какого цвета черный шарик, а потом проводили перед ним галерею людей, подговоренных утверждать обратное – что шарик белый. И человек оказывался загипнотизирован коллективным мнением.
Примерно то же самое сейчас происходит со мной, после московской премьеры «
Короля Лира» Льва Додина. Всего два спектакля показывает в Москве Додин, и на премьеру съехался весь московский бомонд. В зале оказались замечены Юлий Ким, Лия Ахеджакова, Олег Попцов. Разумеется, был там и Алексей Вадимович Бартошевич – корифей шекспироведения. Не слишком большой и явно не слишком удобный зал ТЮЗа, в котором даже вентиляция не предполагается, оказался забит полностью – сидели во всех проходах и приносили еще стулья. В вестибюле изобилие зрителей приводило к столкновениям и пробкам, как поутру на автостраде. В такой обстановке всеобщей взвинченности психологически уже начинаешь ожидать если не шедевра, то хотя бы чего-то любопытного и неожиданного.
Додин когда-то взошел на театральный олимп со своими «Братьями и сестрами». Это было событием, потому что жизнь простых людей предстала жителям двух столиц в совершенно непривычном и далеко несоветском виде. Тогда Додина называли младшим товарищем и преемником великого Георгия Товстоногова. И, вероятно, это было справедливо, потому что слово правды воспринималось как глоток свежего воздуха.
Теперь же Додин взялся за Шекспира, а Шекспир – это не Федор Абрамов. Он как-то из другого теста слеплен. В анонсах Додина, на спектакли которого приходит сама Валентина Матвиенко, называют «театральным генералом», а это – увы, далеко не комплимент. Скорее наоборот: это указывает на опасную тенденцию превращения Додина в монумент, а его постановок – в официальный эталон. На такой острый момент пришлась и одна из самых сильных и сложных трагедий Шекспира.
«Король Лир» экранизировался и ставился так много, что круг придется ограничить несколькими примерами.
Начать, конечно, следует с бессмертного Г.М.Козинцева и его фильма. Лично я вообще иного короля, кроме Юри Ярвета, не вижу. И когда великий актер, ради которого Козинцев выучил эстонский язык (Ярвет русского не знал), произносил свою хрестоматийную фразу: «Король! До кончиков ногтей король!» ему верили все, потому что было и величие, и голубая кровь, и белая кость, и королевский взгляд из безумия, и королевский жест из рубища. С ним можно было делать что угодно, он все равно оставался королем. При этом мы знали, что сам Ярвет вырос в детском доме и начал свою карьеру звезды в молодежном танцевальном ансамбле. Но у него был актерский гений, и было то, что называется породой, и чего сегодня днем с огнем не сыщешь.
И шута воспринять иначе, как в исполнении Олега Даля, тоже невозможно, потому что это балаган, феерия, кураж. А Даль был стопроцентным комедиантом, площадным гаером самого высокого порядка. Наконец, это было чертовски умно, талантливо, стильно.
Но понятно, что канонизировать Ярвета и Даля как единственных исполнителей этих ролей просто невозможно, значит – с самого начала следует принять определенную условность: пусть все играют «Лира», лишь бы в этом присутствовал хоть какой-то смысл.
И тут вспоминается сначала академичный Малый театр с М.Царевым в роли Лира, которая шла так долго, что к ней успели привыкнуть как к памятнику Пушкину на Тверском бульваре. А потом – авангардистская постановка С.Женовача в театре на Малой Бронной.
Когда в начале 90-х Женовач поставил своего «Лира» с деревянными прямоугольниками, по которым, как по спортивному бревну, должны были ходить несколько утратившие форму звезды, то казалось, что это все – конец. Звезды то и дело обваливались с этих бревен, отягощенные еще и подлинными горностаевыми мантиями (королевская династия как-никак!) К тому же, звезды то и дело забывали текст, написанный постмодернистом Остапом Сорокой. Текст Сороки казался ужасом. Сейчас постановка Женовача вспоминается как шедевр. Потому что появился Додин.
С самого начала происходит что-то не то. И король здесь показан тошнотворный настолько, что с самого начала, когда он еще идет по зрительному залу и для чего-то фамильярно подмигивает зрителям, уже начинаешь сочувствовать его дочерям, названным, кстати, в переводе Дины Додиной «противоестественными ведьмами». Потом еще упоминается «противоестественный заговор». Вообще, слово «противоестественный» встречается с такой частотой, что напрашивается вывод: это либо любимое слово переводчицы, либо единственное. Впрочем, тот же король быстро развеивает это заблуждение, посылая своего собеседника «в жопу». Зал на это радостно смеется и рукоплещет, хотя никакого особого смысла и необходимости в таком обороте не было. Просто понравилось слово «жопа». А потом точно также и слово «мудак», брошенное шутом. Насколько мне известно, радость эти слова вызывают исключительно у школьников третьего класса. Дальше, в четвертом классе, уже не вызывают. Потому что становятся примитивными и слабовато перчеными для взрослого человека. Вынуждена еще раз повторить – аудиторию спектакля составляли не школьники третьего класса, а художественная элита столицы более чем половозрелого возраста.
Дальше все происходило в том же заданном стиле. Положительный герой Эдгар вначале хохотал над скабрезными шуточками отца над незаконнорожденным братом, а потом развлекался надуванием презерватива и прикладыванием его к гениталиям. Но первая кульминация наступила в сцене стриптиза Эдгара, перевоплощавшегося в «бедного Тома». Если больше зрителю сказать уже нечего, актера надо раздеть. Этот прием сейчас не такая уж редкость, но с профессиональной точки зрения это все равно, что расписаться в собственной беспомощности. Залу понравилось раздевание. У людей сейчас много проблем.
Но и это еще не феерия. Главной кульминацией всегда была сцена бури. И вот тут режиссер сделал совершенно радикальный ход – он раздел всех! По сцене дефилировали обнаженный Лир, обнаженный Кент, обнаженный Эдгар и обнаженный шут. И так почти до конца представления. В таких случаях комментарии излишни, но тут же появляются хвалебные статьи о «срывании покровов» и «теме обнаженной природы». Появились они и в этом случае.
И вот уже среди критиков нашелся свой поклонник и любитель, которого позволю себе процитировать: «Такие разные тела – сильное и молодое тело Эдгара (отличный дебют студента Данилы Козловского, которому сейчас только ленивый не прочит большого будущего), уже начавшие увядать тела Лира и Кента (Сергей Козырев) и тело шута (Алексей Девотченко), у которого обостряется какая-то дьявольская подвижность и легкость». Да просто поэма!
Это упоение обнаженным мужским телом становится и апофеозом спектакля и его, спектакля, естественным продолжением. Дожились! – как говорит один мой знакомый.
Если кто-то до сих пор не вник, ему поясняют: «…режиссер сохраняет объективный,
можно сказать медицинский (здесь и далее курсив мой – М.С.), взгляд на происходящее».
Это сразу напомнило мне послевоенные времена в Германии начала 20-х годов прошлого века, когда под видом «медицинских», «оздоровительных» фильмов снимались коммерческие картины «для взрослых», приносившие огромный капитал.
А это из другой статьи, но смысл тот же: «Зритель чувствует себя примерно так же на протяжении всего спектакля, потому что "Король Лир" Додина - это исследование тела, точнее даже будет сказать, суд над телом: актеры в качестве
экспертов». В первом случае ключевым было слово «
медицинский», во втором – «
эксперты». Почему-то от таких объяснений становится еще более тошно, хотя авторы этих текстов рассчитывали на обратное.
Вообще, критики люди интересные. Они так умеют все запутать, как никто другой не умеет. Вот чтобы я что-то поняла из того, что тут написано: «Фантазии, впрочем, могут завести воображение зрителя куда угодно. Но пустота и намек на несформулированную катастрофу задает решенному в черно-белых тонах додинскому "Королю Лиру" внебытовые измерения. Во всех своих спектаклях Лев Додин мучительно продирается к первоосновам бытия и его главным вопросам. Но не торопится их поставить ребром. Собственно говоря, магия додинского театра как раз и состоит в том, что конкретность действия и обоснованность актерского поведения, дающаяся месяцами репетиций и покоящаяся на фундаменте русской психологической школы, никоим образом не оказывается самоцелью. Но именно благодаря фантастической налаженности реальной жизни на сцене случаются в МДТ прорывы в ту сферу, которая и управляет частностями земной правды».
Больше всего мне понравилось про «
несформулированную катастрофу», «
внебытовые измерения», «
мучительно продирается к первоосновам бытия» и еще про «
частности земной правды». Хочется спросить: «Сам-то понял, чего сказал?»
Кстати, очень напоминает некое подобие литературно-критического анекдота:
Встречаются два критика. Один другого спрашивает: «Эта пьеса о чем?» Второй (глубокомысленно): «Конфликт духовности и бездуховности»
Уход от ответа – это тоже ответ. Создается впечатление, что в начале критик упивался своей способностью виртуозно нанизывать ничего не значащие слова друг на друга, а в конце сел на любимого конька и описал в красках мужскую анатомию. Извините. Может, я грубо? Но и в ходе обсуждения спектакля все время почему-то тянуло на лексику из нового перевода: слова на «м» и на «ж» то и дело на язык наворачивались.
Оформление спектакля тоже вызывало недоумение. Зачем понадобилось делать декорации в виде блокадных заклеенных окон? Почему то шут, то Лир постоянно наигрывают на пианино одну и ту же пьеску, от которой в финале уже тошнит? Почему у шута брюки подозрительно надеты задом наперед, а все остальные мужчины ходят в современных осенних куртках? Почему дочери у Лира все одного возраста? Почему Эдмунд, всегда (да и здесь тоже) заявленный как исключительный красавец, в спектакле такой аморфный и напоминает больше плохо причесанного Иванушку-дурачка?
Как удобно показать всех донельзя неприятными, грязными и скотскими, а потом объявить, что таков и был главный замысел – уничтожение и низвержение романтического. Да, романтического тут нет. Нет Лира, пробующего на вкус слезу Корделии, нет полных страсти слов отца, обращенных к дочери: «Дай яду мне – я отравлюсь: ведь ты меня не любишь!» Есть только одно – рвотный рефлекс и ощущение наползающей пошлости.
Но почему тогда непременно Шекспир? Уничтожается не романтическое, а сам автор, который уже едва ли предъявит права. Вот же незавидная участь – быть великим писателем!
И еще одно любопытнейшее наблюдение из нашего, как сказала бы Дина Додина, «противоестественного времени». Собственно, то самое, с которого все и началось. Вдруг оказываешься в зале совершенно один. Вокруг немолодые люди – артисты, критики, политики, ученые. Молодых довольно мало. И благосклонно внимают, и радуются: «жопа» - как остроумно! «мудак» - как весело! И накатывает какое-то странное одурение – что-то вроде вакуума. Будто ты один в пустоте. Неприятное, надо сказать, чувство. Но как оно для нашего времени типично и практически уже социально, потому что стало рядовым явлением!
И начинаешь задумываться: «А может, проще сразу признать, что все правы и шарик белый?»








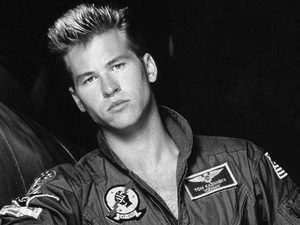




обсуждение >>