«Тени» Н. Салтыкова-Щедрина. Режиссёр – Ф. Берман. Художник – Т. Сельвинская. Драматический театр имени С. М. Кирова, 1976 год.
Ранняя пьеса Салтыкова-Щедрина «Тени» впервые была поставлена в 1914 году и встречена прессой враждебно. Статья о спектакле называлась «Оскорбляют мёртвых». И через полвека она ещё приводила в содрогание потомков.
Позднее «Тени» были совершенно забыты. Только в начале 50-х годов пьеса появилась сразу на двух сценах – в Ленинграде и Москве. Спектакли Н. Акимова и А. Дикого стали не только вехами творческого пути режиссёров, но и открыли новый этап в освоении русской классики. Оба режиссёра по-разному почувствовали и по-разному воплотили своё впечатление от щедринской сатиры. Речь шла не об отрицании частностей и деталей, даже не об отрицании жизни «верхов» или бюрократического устройства Российского самодержавного государства. Речь шла об отрицании всего уклада жизни, всей системы её, обращённой, перевёрнутой, как жизнь теней. Постановщики обнаружили, конечно, и отличие ранней щедринской пьесы от более поздних его вещей. Писатель, ещё не оглушённый цензурой, не ищет для своей сатиры никакого прикрытия и заслонок, никакого «эзопова языка». Сатира обретает открытую ярость политического памфлета. Наш театр столкнулся тут с особым качеством русской литературы, которое именно в связи с Щедриным было определено Чеховым:
«Обличать умеет каждый… Но открыто презирать умел только Салтыков».
В спектакле Кировского драматического театра режиссёр Феликс Берман, учитывая прежний театральный опыт, распорядился с пьесой по-своему. В Кирове поставлено
«бесово действо», восходящее к классическим формам балагана, сплавленного с изыском мгновенного, как угол, психологизма. Это позволило расширить привычные стилевые границы щедринского театра, как бы уже вобравшего в себя художественные открытия, которые в скором времени суждено было сделать Сухово-Кобылину.
Раскрывая систему отношений героев «Теней», режиссёр отошел от традиционного, продиктованного, кажется, прямыми требованиями пьесы, конфликта. Многие считали, что писатель рассказал историю постепенной гибели души провинциального юноши Бобырева, попавшего вместе со своей очаровательной женой-провинциалкой в руки столичных развратников и негодяев. Режиссёр преследовал иные цели, и в глазах его, как видно из спектакля, стоял иной сюжет. Жизнь в пьесе Щедрина раскрыта как сложная система, в которой выделены разные уровни, как круги ада, где блуждает, не обретая покоя, человеческая душа...
Пространство спектакля, созданное художником Татьяной Сельвинской, включает в себя несколько планов. Во-первых, это театральная метафора Петербурга, взятого и в его парадном величии и в его тёмных и страшных задворках. Львы и львицы, растянувшиеся по кругу, как бы охраняют подступы к замкнутому ими пространству, в центре которого крыша огромного стола, покрытого зелёным сукном. Зелёное поле столешницы тоже осмыслено многократно: это и знак государства, канцелярии, перед которой все ничто, и своеобразная площадка для балаганных антре. Первые появления героев происходят в основном на этом зелёном ковре стола, подпираемого львами и львицами. Сверху свисают цепи, вместе с верхним кругом образующие нечто вроде нимба, огромной люстры, заодно напоминая о висячих петербургских мостах и ещё о какой-то детской карусели. Позже пространство расширится, вернее, распадётся, откроет свою

изнанку: оглушённый неудачами на государственной ниве, Бобырев – Ю. Машкин будет проходить по какому-то странному коридору, а сцена, только что выглядевшая монументальной, изменит облик. Герой окажется среди руин и клеток – то ли дом, то ли город, то ли зоопарк.
Львы и львицы по кругу, зелёный ковёр, на котором персонажи внезапно возникают и так же внезапно проваливаются, наконец, торжественные звуки фанфар, неоднократно прорезающие тишину, - из всего этого возникает новое пространство: балаган с весёлыми болотными чертями, оседлавшими львов и львиц. Появившийся из зала Бобырев в каком-то немыслимом оранжевом фраке, с нелепой жестикуляцией оказывается среди здоровых едоков и игроков фигурой нелепой, страдательной и смешной. История Бобырева подана как история грустного шута. Чудака из Семиозёрска.
В особом духе проинтонирован весь текст пьесы. Режиссёр дал расширительное, но очень меткое толкование самой природы изображённого Щедриным мира как мира непристойного. Непристойность тут не только в сюжете, основанном на купле-продаже женского тела. Она разлита в воздухе, и за всей парадностью фанфар и букетов, количество которых прямо пропорционально глубине падения Сонечки, за всей мишурой слов прячется «собачья свадьба» на всех уровнях: от государственных сфер до борделя. Говоря точнее, обе сферы уравнены. В борделях, как показывает Щедрин, нередко решались государственные вопросы.
Была ли сегодня Клара Фёдоровна «милостива» к князю – первое событие спектакля, его ждут, обсуждают, строят планы. Клара Фёдоровна была милостива, скажет Набойкин, и это сообщение государственной важности принесёт облегчение.
Основной речевой тон спектакля – взвинченный, полуистерический хохот, когда смеяться уже нечем и из груди вырывается только сип.
Любая невинная фраза воспринимается как непристойность, её ищут, поджидают, «подкладывают» под любой текст. «
А вы неспособны даже одно дело сделать (хохот) – достать билет на «Дочь фараона». «
У вас отличный тенор» (хохот, переходящий в визг) и т. д. Текст оказывается длинной, разветвлённой непристойностью, которая есть ось, суть и цвет этой жизни. Застенчивый чудак из Семиозёрска, приехавший сюда к своему бывшему товарищу Клаверову, именно к этому и не был готов; воображения не хватило, анекдотов не знал и в игре участвовать не смог. Потому и был по, слову писателя «употреблён» вместе со своей очаровательной женой, которая в игру вступила сразу, одурманенная и ошарашенная бойким ритмом и роскошью открывшегося мира.
Общая трактовка жизни как разросшейся непристойности захватывает все уровни спектакля, от вещественного оформления до игры актёров. Тут намечены определённые её границы и степени, так сказать, её иерархия. Если на нижней ступени стоит купец Обтяжнов (М. Обуховский), который излагает своё кредо абсолютно ясно – «
ещё у груди кормилицы чувствовал склонность к прекрасному полу», то на высшей ступени стоит князь (Р. Аюпов), низость которого скрыта изыском светской речи. «Это делает ещё более привлекательным ваше общество, - обращается князь к Софи, в которое вы допускаете (князь распахивает сюртук, обнажая ослепительно белые панталоны) только избранных. Откровенный жест вполне соответствует духу сцены: дом Софи давно превратился в бордель. После вечеринки «избранные» гости приезжают вместе с хозяйкой в дом, ине раздеваясь, прут в комнаты. Какие-то чучела, уже совершенно не различимые, как Розенкранц и Гильденстерн, Апраксин и Камаржинцев в немыслимых штанах с кисточками и бахромой – два типичных буффа – помогают Софираздеться, бормочут что-то про лимоны, которые можно достать. Тут же сипит, исходит смехом Набойкин, а мамаша Мелипольская (М. Меримсон) задыхается в поцелуях.
Но сцена, которая завершится домашним скандалом, бунтом пьяного Бобырева, о чём речь впереди, решена постановщиком и гневно и сочувственно Может быть, именно здесьщедринская мысль о сатире, в которой должен присутствовать идеал, получает и наиболее убедительное театральное подтверждение. Гостиная Бобырева предстаёт в виде огромного дивана, внутри которого амфитеатром расположились ступени. По этому бордовому амфитеатру и ползают «избранные» гости. Но даже изнутри этого мира возникает какая-то тревога. После того как Софи сообщила программу вечера и обещала «показать плечо», после того как все вдоволь отсмеялись и осипли, они под тихую музыку пытаются танцевать. Начинается «грустный танец в борделе».
Взбудораженность тона связана с линией Клаверова (В. Смирнов) и его ближайшего окружения: Набойкина (Е. Мызников) и Свистиков (В. Созонтов). Эта тройка трактована как военный штаб, где Клаверов – главнокомандующий, Набойкин – начальник штаба, а Свистиков – адъютант. Сам Клаверов прежде

всего игрок («Интрига, интрига – вот двигатель нашего времени» - основное свойство этой фигуры). Режиссёр пошёл на сужение характера.
На первый план выдвинут азарт политического игрока, азарт тем больший, чем больше риск. Вот основа поведения, его регулятор. «Я достал билеты на «Дочь фараона» - звучат фанфары – и так каждый раз. Всё время возникают крупные и мелкие делишки, кто-то кому-то всё время достаёт, деньги меняют на женщин, женщин – на должности. Фанфары сопровождают в равной степени удачу в доставании билетов на модный спектакль и удачу в деле сведения Софи со старым князем. Этот весёлый, энергичный, молодцеватый, хотя и лысоватый шустрила с карими глазами, усвоил одно важнейшее правило жизненного благополучия, которое преподнесено было Бобыреву с первого момента его пребывания в столице. Растягивая слова, разбивая их на слоги, будто обучает азбуке, Набойкин тогда внушал ему: «
Теперь у нас в видусисте-ма… дисципли-на и ниче-го больше… ты должен заранее убедить себя в доб-ро-те сис-те-мы… Клаверов это понял». В Клаверове открыта и торжествует разрушительная сила ума, брошенного в интригу, в мнимую чертовскую карусель. Правда, режиссёр тут, может быть, в целях большего стилевого единства, ослабляет или опускает ряд довольно существенных моментов клаверовской биографии. Из спектакля ушёл мотив бывшего братства, школьного идейного единения всей этой компании, оседлавшей страну. Бобырев пропускает в начале фразу о том, что «мой предшественник, тоже из наших, сплошь и рядом подавал мнения». Это бывшее либеральное юношеское братство (словечко «из наших» - сигнал его), не акцентируется; совершенно опущено то место в письме Шалимова, где сказано о Клаверове, участнике либерального кружка. Клаверов, сыгранный в спектакле, не испытывает никаких угрызений совести (в отличие от своего московского собрата) и не может сказать (как в пьесе), что он чувствует на себе шалимовский взгляд и ему становиться неудобно «будто ножом по тарелке полоснут».
В герое не остаётся и следов старого сознания, прежнего провинциального прекраснодушия. Вытоптано всё до основания, да и вытаптывать особенно было нечего. К кормилу пришло молодое поколение, которое Щедрин не хотел упрощать. Современный режиссёр не хочет копаться в тонкостях этой отвратительной психологии. Удар наносится сразу, без всякой надежды, что можно что-то подправить, исправить, указать иной жизненный путь. Этот мир наглухо замкнутый, внутри себя безошибочно логичный, потому что исходит из самых низких, распространённых и понятных инстинктов. Тут нет места морализированию. «Отвратительно-счастливая»звезда Клаверова всходила и будет всходить в царской России – Щедрин никаких иллюзий на этот счёт не строит. Сцена между Клаверовым и Набойкиным, где обсуждается выход из создавшегося щекотливого положения, решена «концертно». Они ведут разговор как два перебивающих друг друга виртуоза-чтеца. Посылки выстраиваются как выпады. Фразы разбиваются на короткие отрезки, которые подаются как подбадривающие лозунги. В конце сцены два приятеля обнимают друг друга, как воины перед битвой. Мелкое зло, связанное с гибелью человека или позором женщины, виртуозно растворяется в общей целесообразности того самодержавно-бюрократического порядка, системы, которые Клаверов олицетворяет.
Режиссёр отказывается от морализирования, ибо среда, изображённая в пьесе. – вне морали. Режиссёр отказывается сталкивать Бобырева с этим миром и изыскивать пути, по которым могла бы иначе реализоваться его судьба.
«Обыкновенная история» смирения человека с подлостью рассказана уже столько раз, что режиссёр решил трактовать провинциального чудака иначе. Бобырев победить клаверовскую систему не может. Он может только, по Щедрину, смириться, слиться, сравняться с нею, что и происходит по прямому сюжету: «употреблённый» муж присылает покаянное письмо и снова готов стать«государственным человеком».
Режиссёр кировского спектакля подумал об иной возможности.Из мира Клаверова можно уйти. Противостоять нельзя. Победить немыслимо. Смириться позорно. А вот уйти, сохранив себя, можно. И режиссёр применяет оригинальный приём: письмо Бобырева, где он просит прощения у людей, растоптавших его честь, оказывается невероятно преувеличенных размеров, что переводит этот поступок в ирреальный план. Сам же Бобырев, чураясь и отмахиваясь от тех, кто остаётся, как от нечисти, уходит в зал – в иное пространство, покидает мир мужественных львов и обольстительных львиц, охраняющих покой бордель-канцелярии.
История Бобырева вполне повседневная. В ней нет ничего исключительного. Тут

даже нет надругательства над его любовью – Бобырев женился на Софи, по собственному признанию, для «симметрии». Вопрос стоит о сохранении души заурядного человека. В пьесе Щедрина этот вопрос решён отрицательно и беспощадно. В «Тенях» нет надежды на спасение. Режиссёр эту надежду эту надежду подаёт зрителю буквально – герой уходит к ним. Красиво, конечно, но не утешает, ибо решение это абстрактное, так сказать, не от жизни. Идти Бобыреву некуда, внешнего пространства для него нет, тем более, что провинция, кружок провинциального просветителя и ригориста Шалимова – всё это для Бобырева пройденный этап. Никаких внутренних ресурсов, чтобы уйти в себя, заместить враждебное внешнее пространство миром духовной работы этому Бобыреву тоже не дано. Поэтому гораздо сильнее, чем финальный эффектный уход в духе Чацкого, решён бунт Бобырева.
Герои Щедрина подлинного бунта не знают. Их изуродованная природа не столько бунтует, сколько на миг показывается. И чаще всего перед тем, как окончательно угаснуть. Так в «Балалайкине», уже пройдя весь путь «мучительногооподления», щедринский Глумов (В. Гафт) вдруг не выдерживает и орёт: «Воняет!» На миг бывшая человеческая душа выглянула, вспыхнула, чтобы потом, уже не оглядываясь, пуститься во все тяжкие. Но как бы не был короток этот миг прозрения, это подобие заговорившей совести, он для Щедрина чрезвычайно важен, может быть, важен более, чем для любого другого художника, потому, что только тут приоткрывается за злобной яростью сатирика его больная душа. Бунт Бобырева решён в кировском спектакле очень просто, но вместе с тем сильно и глубоко. В нём открыто общепонятное и потомунеотразимо действующее противоречие. Вначале Свистиков спаивает Бобырева. Этот прихрамывающий мелкий бес, малая шестерёнка клаверовской системы играется, как уже было сказано, не отдельно, а вкупе с Клаверовым и Набойкиным. Тут разработанная система отношений, каждый имеет свою долю, и шестерёнка Свистиков своей долей совершенно доволен. Он упоён ролью «поставщика товара» и вышибалы, так же как Набойкин упоён ролью хозяина борделя, а Клаверов – его идеолога. Есть сцена, где эти «три богатыря» обнимаются, демонстрируя единство и сплочённость. Так вот хромой Свистиков Бобырева спаивает, пойло выплёскивает в морду льву, а затем, оседлав напившегося провинциального романтика, уезжает в его кабинет. Кажется, ничто не предвещает бунта. Человек унижен и раздавлен до предела. Вот на этом самом пределе у героя Щедрина в последний раз вспыхивает совесть человеческая. То, что писатель называл «тоской проснувшегося стыда» Бобырев «выносит» на себе Свистикова. Потом появляется Софи с «избранными» гостями. Объявляется программа вечера. Ждут какого-то писателя, который так и не приходит. Прошёл «грустный танец», князь произнёс своё «вы принимаете только избранных». Набойкин рассказал, как он подсматривал в замочную скважину в спальню Софи и Бобырева. Все отсмеялись. И вот тут-то, в момент полного распада появляется бунтующий Бобырев.
Режиссёр нашёл резкий, но чрезвычайно выразительный приём, который и дал сцене бунта необходимый объём и сложную интонацию. Дело в том, что в руках у пьяного чудака оказывается неизвестно откуда взявшийся лист жести, который он держит над головой. Такой лист употребляют за сценой, когда надо устроить театральный гром. Этот раскат и оркеструет бобыревский бунт. После каждого проклятия Клаверову раздаются «мощные» раскаты наивно-театрального бессильного грома. И страшно это бессилие и смешно, и безнадёжно. Сочувствие режиссёра Бобыреву, желание сделать его лирическим центром спектакля тут наиболее оправдано и нашло противоречивую форму, отвечающую противоречивости самого человека.
В другом случае желание режиссёра «высветлить» щедринскую героиню показалось мне не оправданным. У Сонечки (Н. Кислицына) очень смешны повадки провинциальной девочки, обалдевшей от новых возможностей, открытых столицей. Актриса играет это тонко и интересно. Первый букет, посланный старым князем, воспринимается как оскорбление. Но пройдёт совсем немного времени, и вся сцена будет уставлена букетами от разных людей. «Прямо букетный день» - в общем духе в общем духе скрытой за изыском и красотой непристойности решается и эта сцена и вся роль. Вдруг в последней картине режиссёр и актриса повернули совсем в другую сторону: им стало жаль Сонечку. С гневом и пафосом, знакомым по пьесам других авторов, весьма далёких от Щедрина, Софи стала обличать своего бывшего любовника, а заодно и весь род людской. Её в самом деле обидели, и в финальной сцене она действительно понимает, что есть Клаверов и его «принципы», его знаменитое «это надо». Но, тем не менее, у Щедрина меньше всего идёт речь об обиженной добродетели. Подлинная суть заключена в другом. Достойная дочь своей мамы (у которой, не зря сказано, были в гостях «уланы, гусары, вся кавалерия») идостойная ученица Клаверова, Сонечка не растерялась ив трудный момент. С ходу разорвав с Клаверовым, она выбирает себе в покровители нового негодяя, младшего князя Тараканова. Одна из последних фраз дошедшей до нас редакции пьесы (а в спектакле – последняя) звучит так: «Князь, вашу руку»…
Писатель в отличии от режиссёра, утешительного финала не даёт.
Два новых смысловых акцента этого спектакля – уход Бобырева из страшного мира теней и финальное высветление героини свидетельствуют о разном. Отчётливо виднапозиция постановщика, его уверенность в том, что человек может и должен сохранить себя в любых обстоятельствах. Ф. Берман настаивает на этом даже вопреки автору там, где текст не даёт для этого оснований. Но тут возникает уже второй вопрос, далеко выходящий за рамки кировского спектакля и связанный с характером отношений всего нашего театра, с сатирой Щедрина и той линией русской драматургии, которая тесно к ней примыкала (прежде всего драматургией Сухово-Кобылина).
Мрачный и беспощадный мир Щедрина (в равной степени как и в двух пьесах Сухово-Кобылина «Дело» и «Смерть Тарелкина») оказывается некоторым современным театрам в чём-то не под силу. К такому трагизму и безысходности, к такой трезвости, не допускающей никаких лазеек, к такой универсальной критике трудно привыкнуть, эстетически её оправдать. В этом разреженном воздухе голой правды трудно дышать.
Мы знаем доброту русской классики, мы знаем, что Гоголь это «смех сквозь слёзы», а в сатире Щедрина бьётся горячее, кровью истекающее сердце. Но всё это не сопровождалось у них никаким конкретным указанием просветов, выхода, надежды. Подобная «конкретность» нам необходима, и мы готовы одарить ею классика от себя. В этом пункте давно уже возник разлад между писателями и теми, кого Гоголь называл «бедным читателем»: «Прибавь я только одну добрую черту любому из них (
герою поэмы «Мёртвые души», от названия которых, конечно, идут и Щедринские «Тени». – А. С.), читатель помирился бы с ними всеми. Не пошлость всего вместе испугала читателей. Испугало их то, что один за другим следуют у меня герои один пошлее другого, что нет ни одного утешительного явления, что негде даже и приотдохнуть или дух перевести бедному читателю».
У Щедрина и Сухово-Кобылина не только изменилась природа и регистр смеха, но и смех сам по себе перестал быть искомой целью взаимоотношений с действительностью. Действительность была такой, что потребовались более горькие лекарства.
Дорого дал бы автор, чтобы все его пьесы вызывали в современном обществе не смех, а содрогание», - начинает Сухово-Кобылин прошение о разрешении своей пьесы, а необходимость втакого рода воздействии объясняет так: «Содрогание о зле и есть высшая форма нравственности».
Вот та эстетическая формула, которая, может быть, многое объясняет в театральных судьбах крупнейших русских сатириков.
«Содрогание о зле» всегда требует от театра огромной воли. И боли. И такого уровня искусства, который не даст расслабиться и «приотдохнуть» себе и зрителю на лёгком юморе или на других испытанных и надёжных средствах развлечения. Эта эстетика требует постоянной нравственной и художественной мобилизации. А это невероятно трудно. И потому кировский спектакль – в удачах его и слабости – тесно связан с общим ходом нового театрального осознания наследства Щедрина, которое происходит на наших глазах.

 изнанку: оглушённый неудачами на государственной ниве, Бобырев – Ю. Машкин будет проходить по какому-то странному коридору, а сцена, только что выглядевшая монументальной, изменит облик. Герой окажется среди руин и клеток – то ли дом, то ли город, то ли зоопарк.
изнанку: оглушённый неудачами на государственной ниве, Бобырев – Ю. Машкин будет проходить по какому-то странному коридору, а сцена, только что выглядевшая монументальной, изменит облик. Герой окажется среди руин и клеток – то ли дом, то ли город, то ли зоопарк. всего игрок («Интрига, интрига – вот двигатель нашего времени» - основное свойство этой фигуры). Режиссёр пошёл на сужение характера.
всего игрок («Интрига, интрига – вот двигатель нашего времени» - основное свойство этой фигуры). Режиссёр пошёл на сужение характера. даже нет надругательства над его любовью – Бобырев женился на Софи, по собственному признанию, для «симметрии». Вопрос стоит о сохранении души заурядного человека. В пьесе Щедрина этот вопрос решён отрицательно и беспощадно. В «Тенях» нет надежды на спасение. Режиссёр эту надежду эту надежду подаёт зрителю буквально – герой уходит к ним. Красиво, конечно, но не утешает, ибо решение это абстрактное, так сказать, не от жизни. Идти Бобыреву некуда, внешнего пространства для него нет, тем более, что провинция, кружок провинциального просветителя и ригориста Шалимова – всё это для Бобырева пройденный этап. Никаких внутренних ресурсов, чтобы уйти в себя, заместить враждебное внешнее пространство миром духовной работы этому Бобыреву тоже не дано. Поэтому гораздо сильнее, чем финальный эффектный уход в духе Чацкого, решён бунт Бобырева.
даже нет надругательства над его любовью – Бобырев женился на Софи, по собственному признанию, для «симметрии». Вопрос стоит о сохранении души заурядного человека. В пьесе Щедрина этот вопрос решён отрицательно и беспощадно. В «Тенях» нет надежды на спасение. Режиссёр эту надежду эту надежду подаёт зрителю буквально – герой уходит к ним. Красиво, конечно, но не утешает, ибо решение это абстрактное, так сказать, не от жизни. Идти Бобыреву некуда, внешнего пространства для него нет, тем более, что провинция, кружок провинциального просветителя и ригориста Шалимова – всё это для Бобырева пройденный этап. Никаких внутренних ресурсов, чтобы уйти в себя, заместить враждебное внешнее пространство миром духовной работы этому Бобыреву тоже не дано. Поэтому гораздо сильнее, чем финальный эффектный уход в духе Чацкого, решён бунт Бобырева.


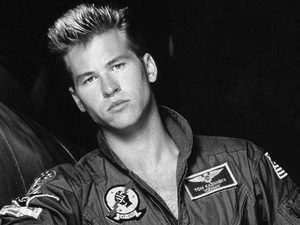





обсуждение >>