Наша постановка «Гамлета» вызвала по большинству отрицательное отношение критики, а что касается шекспироведов, то по большинству — резко отрицательное. Главное их возражение примерно таково: «Спектакль сделан не по правилам. Так прежде не ставили, поэтому так ставить нельзя».
Но это и есть принципиальный пункт наших несогласий с любыми возможными «ведами», полагающими, будто литературное произведение надо ставить «ведомственно» — так, как они объяснили его в своих книгах, то есть, следует понимать, закрыли навсегда. Любую вещь, уверен, нужно и можно ставить только так, как сам ее чувствуешь и понимаешь, в соответствии с собственным сегодняшним опытом. И потому, чем принципиальнее вещь поставлена, тем в более конфликтных отношениях она с охранителями чистоты классики.
Нам припоминают и Белинского, и Мочалова, и Уильяма Поула, и уж, конечно, Высоцкого, и иные авторитетные и прославленные имена, чтобы уличить нас в грехе бескультурья, отступничества, невежества, антигуманизма и, чтобы уж не мелочиться, — фашизма. Одни утверждают, что ничего нового в спектакле нет и вовсе — так, перепевание «расхожих штампов-приемов последних трех десятилетий»; другие говорят, что в спектакле полное забвение культурной традиции постановок Шекспира (то есть, как я понимаю, ничего старого), да и вообще культуры. Не пытаясь ни покаяться в столь многих, разнообразных, взаимоисключающих грехах, ни опровергнуть моих суровых критиков, хочу все же разобраться причинах, вызвавших столь яростный, столь мощный накал неприятия. Если критика вправе судить режиссера, то и режиссер вправе судить своих критиков. «Взаимоуязвимость», как заметил в одном из фельетонов Леонид Лиходеев, взявший за образец ситуацию двух столкнувшихся «Жигулей», есть начало демократии: каждый заранее знает, что столкновение чревато последствиями для обеих машин, а не для одной чужой.

Но сначала о своих собственных намерениях и об их реализации в спектакле. Постановка «Гамлета» для меня результат восьми лет размышлений над пьесой, попытки осуществить ее в кино, в то время оказавшейся, как объяснил мне председатель Госкино СССР Ф. Т. Ермаш, несвоевременной. Благодарен ему за то, что подвиг меня искать такую возможность в театре. Еще более благодарен Марку Захарову, покойному Рафику Экимяну, директору Театра имени Ленинского комсомола, и его коллективу, принявших меня с идеей постановки «Гамлета».
В чем представляется мне главное, принципиальное отличие моей трактовки от любых других, какие я знаю. Во всех них Гамлет был солистом, рядом с которым было оставлено чуть-чуть места для остальных героев — Клавдия, Гертруды, Офелии, Лаэрта. Мы постарались увидеть в пьесе не историю Гамлета-одиночки, а состояние общества, не только датского — вообще человеческого. Гамлет не один, он не в башне из слоновой кости.
Постановки с Гамлетом-одиночкой для меня внеисторичны, как бы старательно в них ни воссоздавался исторический антураж, костюмы и интерьеры. Даже такая выдающаяся работа, как кинематографический «Гамлет» Григория Козинцева, принципиально не выделяется из этого ряда. Гамлет-одиночка не мог жить в XVI—XVII веках. Вокруг каждого принца крови, находившегося у власти, группировалась своя партия, оппозиционная трону. Даже в хорошо известном случае Марии Стюарт, заключенной в тюрьму, существовала на воле оппозиция, поддерживавшая с ней самую активную связь и использовавшая ее как знамя. Потому Елизавета в конце концов и обезглавила Марию, она была пороховой бочкой, заложенной под престол. Таков закон борьбы за власть; в условиях монархии иного быть не может. Особенно в случае, подобном Гамлетову: отец внезапно скончался при невыясненных обстоятельствах, наследника отстранили от власти, права на корону новоявленного мужа матери явно спорны и сомнительны. В самом шекспировском тексте есть указание на существование оппозиции: Гамлет заставляет клясться на мече Горацио и Марцелла, берет их в сообщники своего дела. К тому же сам принц умен, обаятелен, благороден, талантлив, у него все права на власть и реальная возможность ее добиться — а значит, к нему сами будут тянуться те, кто себя считает ущемленным в дарованных престолом милостях.
Гамлет, слоняющийся по замку в одиночестве или в сопровождении невнятной фигуры Горацио, в реальном мире не прожил бы и дня. С ним бы расправились в одночасье, и никто не нашел бы концов. По ходу шекспировского сюжета силы поляризуются: все более ясно, кто на стороне принца, кто служит Клавдию, но по традиции во всех постановках Гамлет продолжает ходить один в печальной задумчивости, окруженный вакуумом. И эту прекраснодушную абстракцию лелеют уважаемые шекспироведы, предпочитающие привычные каноны нашему сегодняшнему знанию о реальной власти и ее механике.
Восстановить справедливость Гамлет может одним-единственным способом — обрести власть, а прийти к власти — лишь опираясь на поддержку своей партии. Исправлять вывихнутый вею может лишь человек, имеющий в своих руках реальный рычаг для этого, власть, а не только лишь благородные порывы, которые не более чем «слова, слова, слова...». Видеть в Гамлете лишь поэта и философа, проповедника гуманных истин, забывая о том, что он также неминуемо вовлечен в схватку за власть, по меньшей мере, наивно. Шекспир не боялся смотреть в лицо реальным фактам жестокой и правдивой истории, которую так любят подчищать радетели шекспировского имени. Они-то и возмущены тем, что в своей постановке мы попытались увидеть реальное противоборство политических сил — партии Гамлета и партии Клавдия: такое противоборство характерно не только для условного Датского королевства, но для всех времен, в том числе и для нашего.
Мы делали спектакль не только о Гамлете, но и о его матери, решившейся построить свою жизнь на маленькой неправде, маленьком грехе, приведшем к большим, трагическим последствиям. И об Офелии, у которой своя драма, своя нереализованная мечта — о любви, о материнстве, о счастье, сбыться которому не суждено, — она оказывается игрушкой в руках политиков. Это спектакль и о Клавдии, который совсем не заурядный злодей. Он у нас ровесник Гамлета, человек одного с ним поколения, одних взглядов, хоть и мера одаренности умом и талантом иная. Они были друзьями детства, теперь стали врагами. Короче, нам важна была судьба каждого персонажа пьесы, каждая из сплетающих ее линий.
Не могу сказать, что наш спектакль оказался не понят. Думаю, его поняли, причем многие и из тех, кто его не принимает. На обсуждении в СТД РСФСР кто-то сказал, что наш «Гамлет» — история о том, как распалась дворовая футбольная команда. Не спорю, принимаю это как комплимент, разве что с, небольшой оговоркой. Двор здесь особый — двор Датского королевства. Аникст назвал свою статью еще хлеще: «Вратарь из Эльсинора». Прекрасное название. Гамлет, я думаю, хорошо стоял на воротах. Кстати, игра в мяч в его времена (под ними я понимаю, естественно, не время хроник Саксона Грамматика, а время самого Шекспира) существовала и пользовалась популярностью и при. дворе и не только при дворе. Начиналось все с честного спорта, честной игры. А кончилось чудовищно — взломом, подлогом, ядом, поножовщиной, горой трупов.
В чем для меня трагедия Гамлета? Как я понимаю эту фигуру?

Гамлет — юноша, глубокий умом, высочайше одаренный. Это поэт, философ, мыслитель, равный Шекспиру, одна из титанических фигур Возрождения. Офелия называет его «гордый ум», это не преувеличение. Трагизм борьбы, в которую он вступил, не только во многих гибелях, которые она за собой повлекла, не только в том, что подложным письмом он послал под топор двух своих бывших товарищей, пусть даже оказавшихся плохими. Худшее, что Гамлет разрушил себя нравственно, убил в себе поэта, философа, стал банальным политическим пошляком. Боролся за высокую справедливость — кончил низостью. Преступив грань, которую человек не имеет права преступать. Чего он добился? Лучше ли стало Датское королевство? Исправились ли в нем нравы? Восторжествовала ли справедливость?
Если бы Гамлет был человеком ничтожным, никчемным, не было бы и трагедии. Чего удивляться подлости, совершаемой ничтожеством? Но в том-то и дело, что речь идет о человеке, прекрасном душой, нежном влюбленном, верном товарище. И есть другой прекрасный юноша — Клавдий. Но как только власть разделила их — один стал королем, другой захотел отнять у него корону во имя восстановления справедливости — дело покатилось к трагической развязке. Вслед за нравственной гибелью последовала физическая. В нашем спектакле они и убивают друг друга и умирают в объятиях друг друга: Гамлет пронзил Клавдия шпагой, Клавдий — Гамлета кинжалом.{}
Я далек от мысли, что все в спектакле совершенно, что от всех актеров я сумел добиться того, чего хотел. Но сколько было и до и после постановок, в том числе и значительных, оставивших след в театре, где актерская игра оставляла желать лучшего. Да и недавние сценические воплощения Шекспира, обласканные прессой не в пример нашей, тоже весьма уязвимы по части актерской игры и главных и неглавных героев. Но это не помешало в целом оценить их позитивно, ибо о спектакле судят по режиссеру, по концепции, по главному стратегическому решению. {}
Естественно, не все трудности, с которыми пришлось столкнуться, можно было предвидеть заранее. Театр жил своей жизнью, и без нашего спектакля очень напряженной. Приближались юбилейные даты и торжества, к которым делались спектакли, — 40-летие Победы, XXVII съезд партии. Вклинивавшиеся постановки отодвигали в сторону работу над нашей. Остановки длились и месяц, и два, и три, ждать было мучительно, накопленное на предшествующих репетициях растрачивалось за время ожидания. Постановка растянулась на два года, хотя, если подсчитать время, которое мы реально работали, то оно составит не более трех месяцев. До показа спектакля на зрителях у нас было всего три прогона, так что практически премьерные спектакли сами были прогонами; увы, пришлось пойти на это, чтобы играть сырой спектакль — таковы были неумолимые условия театрального производства. И все же мы сделали именно тот спектакль, какой хотели и какой могли сделать в пределах реальных возможностей, предоставленных нам театром. Но на зрительский суд мы вышли в крайне невыгодной для себя ситуации. Не хочу только на это списывать реакцию критики. О спектакле писали в основном люди достаточно профессиональные, чтобы отделить промахи исполнения от концепции. Не устроила их именно концепция. {}
Минкин, например, сумел разглядеть в нашем «Гамлете» то, что, кажется, никому иному, даже из недругов спектакля, разглядеть не удалось. То, что Гертруда убийца, к тому же убийца рассудительный, который «не раз и не два «обсасывает»... подробности планируемой ею ликвидации Офелии». Неужели можно было не понять, что не планирует она никакой «ликвидации», а ужасается собственному предвидению! Не менее выдающееся открытие данного автора, кстати, обретшего почитателей своего критического пера не только в альманахе «Современная драматургия», но и в журнале «Театральная жизнь», старательно перепечатавшем его статью, — то, что наш Гамлет — фашист.
«Не делай из Гамлета фашиста, — учит нас Минкин, — ибо он борец с фашизмом... Увы, можно миллион раз повторить, что коричневый Гамлет невозможен. А режиссер в миллион первый раз возразит: а я так вижу!» {}
Минкин ставит нам в вину «плохо и неизвестно зачем смешанные переводы». Между тем никакого смешения переводов у нас нет: спектакль играется целиком по переводу Лозинского. Вместе с тем Минкин восхищается спектаклем Таганки, где играл Высоцкий, ничуть не обращая внимания на то, что игрался он по смешанному переводу (плохо или хорошо, известно или неизвестно зачем смешанному — опускаем). Гамлет — Высоцкий произносил заключительную фразу первого акта так:
«Век расшатался. Пала связь времен», то есть брал сразу два варианта перевода одной и той же строки из Кронеберга и Лозинского.
«Стыковать переводы — не исправить, но удвоить грехи», — убежденно заявляет Минкин, только почему-то относит грехи эти на наш счет, а не на счет того, кому они на самом деле принадлежат... {}
Могу быть в этом отношении благодарен А. Бартошевичу и А. Караулову, которые хоть и не принимают спектакля, но все же пишут именно о нем, а не о чем-то, рожденном собственным воображением. Скажем, общая негативная оценка нашей работы не мешает Бартошевичу увидеть в сцене сговора Клавдия и Лаэрта не просто «полуголых пьяниц в банных парах» (
Н. Крымова), а нечто, происходящее «по соседству с преисподней (
от нее, видимо, и пар)». Но и Бартошевич, на словах провозглашая возможность множества Гамлетов, пытается втиснуть их в ложе собственного (не шекспировского!) понимания. «История принца Датского — это история страдающей мысли, потрясенного сознания. Без этого пьеса Шекспира перестает быть самой собой». Всегда полезно, делая такие решительные утверждения, сопровождать их одним маленьким добавлением — «для меня». Для меня, искусствоведа Бартошевича, пьеса Шекспира без этого перестает быть самой собой. А для меня, режиссера Панфилова, пьеса Шекспира перестает быть самой собой без непрерывного поиска в ней созвучного современности смысла. Кстати, и потрясенное сознание в нашем спектакле, вопреки мнению критика, играет далеко не последнюю роль. Именно оно толкает Гамлета сначала к попытке уйти из жизни, а затем — к действию, к схватке за власть. Может, мы это недостаточно хорошо исполняли, чтобы это прочитывалось, может, Бартошевич не захотел прочесть то, что мы сделали, — в любом случае не вижу повода объявлять наш спектакль, к Шекспиру отношения не имеющим. {}
Концепции прочтения классики могут быть самыми различными и принадлежать совсем не обязательно специалисту-литературоведу. Любой думающий человек, какова бы ни была его профессия, даже если она далека от искусства, может предложить какую-то свою трактовку. Другое дело, интересна ли она, или нет, оригинальна, продуктивна ли, предлагает ли нам что-то новое, или топчется в кругу общеизвестного. Сколько бы умных книг ни написал исследователь, концепции его повлияют на искусство лишь в том случае, если помимо ученых знаний будут обладать таким качеством, как умение сохранять детскую душу, вновь и вновь удивляться сто раз прочитанному, находить в нем что-то для себя новое. Человек, который ничего уже не способен открыть, кроме томов собственных сочинений, бесполезен для режиссерской фантазии. {}
Любой новый шаг, не важно шаг ли это вправо или влево, на юг или на север, все равно шаг вперед. Потому что пространство безмерно, возможность движения в нем регламентации не подлежит. Кстати, сам Шекспир постоянно побуждает задумываться над написанными им строками, искать разгадку их смысла.

Возьмем всем хорошо известную сцену в спальне. Королева кричит: «О, помогите!» Полоний кричит: «Эй, люди! Помогите, помогите!» И никто на их крик не приходит. В чем дело? Разве не стоит задуматься над такой странностью? Ведь зовут не случайные люди на улице, а королева и первый министр королевства.
Мы этой странности даем свое объяснение. Охрана, конечно же, у королевской спальни была. Но сейчас ее нет. Ее убрали люди Гамлета. Теперь они охраняют вход. И когда королева говорит: «Так пусть же с вами говорят другие!» и хочет выйти, чтобы позвать этих других, чья-то рука захлопывает перед ней дверь. Гертруда понимает, что ситуация не такова, какой замышлялась. Гамлет не один, за дверью его люди. Она в ловушке.
Другой пример. Гертруда говорит: «Моей больной душе, где грех живет, все кажется предвестьем злых невзгод. Так глупо недоверчива вина, что свой же трепет выдает она». Как показать зрителю, что душа ее больна? Как раскрыть это на сцене? Нам представилось наиболее точным, наиболее соответствующим нашему спектаклю ответом на это такое решение. В воображении Гертруды
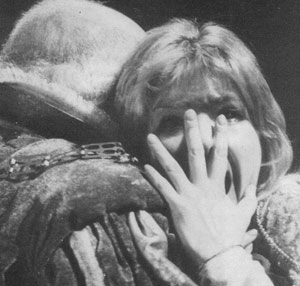
является страшное виденье: ива над потоком, подходит Офелия, развешивает цветы, ступает в воду, плывет, тонет. Эта картина является в ее воображении как галлюцинация, как предвестие, предчувствие грядущей беды. А когда она повторяет те же слова во второй раз (я пользуюсь здесь режиссерским правом на повтор монолога), зритель понимает, что трагическое предчувствие ее навязчиво. Вслед за этим повтором Гертруда и произносит столь важные для нас слова: «Моей больной душе, где грех живет...», теперь они не повисают в воздухе: зритель и сам ощущает, что она больна, что душа ее в смятении и ужасе. {}
Вспомним еще, что вскоре после «Гамлета» Шекспир написал «Макбета», героине которого дан дар ясновидения. Для меня Гертруда и леди Макбет стоят рядом, первая из них предтеча второй. Да, до нас никто так не трактовал Гертруду, но это вовсе не значит, что так трактовать нельзя. Это решение не режиссерская блажь, не прихоть, оно вырастает как потребность из всего, что я в этом спектакле делаю.
Гамлет своей болью, своим действительным уже, а не мнимым безумием заставляет мать повернуться лицом к своей больной совести, признаться самой себе, что в происходящем повинна она. Когда мать попрекает его за убийство Полония: «Что за кровавый и шальной поступок!», он отвечал ей: «Немногим хуже, чем в грехе проклятом, убив царя, венчаться с царским братом». И на вопрос королевы: «Убив царя?», подтверждает: «Да, мать, я так сказал». То есть свидетельствует, что это не оговорка, не сказанное сгоряча, а его убежденность. Мимо этого проходят, словно бы не замечая, многие. Даже в переводе Пастернака этот момент не столь выражен: это одна из причин, по которой я предпочел перевод Лозинского, с точки зрения поэзии, более скромных достоинств, но более четко выявляющий ключевые драматургические моменты. Что мне и нужно: ведь спектакль — не чтение стихов, а драматическое действие.
Кому-то из критиков не понравилось появление на сцене маленьких детей. «При чем тут дети?» — восклицают они. Но этот пролог с двумя мальчиками-ровесниками, которые дружили, любили друг друга, дает мне возможность совершенно иного входа в Шекспира.
В чем, собственно, заключается задача режиссера при постановке классики? В поисках новых обстоятельств старой пьесы. Новых, то есть диктуемых временем, когда пьеса ставится. Таким обстоятельством является для меня то,
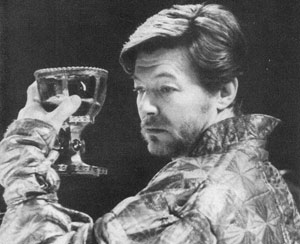
что Гамлет и Клавдий ровесники. Липков в своей рецензии на наш спектакль вполне убедительно обосновал правомерность этого решения. Да, у Шекспира нигде не сказано, что они ровесники. Но у него нигде и не сказано, что они не ровесники. Основной юридический принцип любого демократического государства: «Что не запрещено, то разрешено». Шекспир не запрещает нам возможность такого решения — значит, оно разрешено. Наши оппоненты исходят из иного, авторитарного принципа: «Разрешено только то, что разрешено» — естественно, разрешено исключительно ими же самими.
Гамлет и Клавдий, по нашей версии, с детства были друзьями. Были искренними, добрыми, прекрасными молодыми людьми. Любили прекрасный пол, увлекались спортом, честно соперничали — в фехтовании, в играх, в том числе и в игре в мяч. Так продолжалось до тех пор, покуда один из них не стал королем. А дальше — интриги, мрак, нравственное падение, убийство за убийством.
Для меня удивительно, почему и серьезные шекспироведческие труды, и то общераспространенное понимание, заложенное в нас еще со школьных времен, склонно так идеализировать Гамлета. Да, он велик душой, но он же душою низок. Какой он разный! Какой неисчерпаемый! Он сам же говорит о себе: «Я мог бы обвинить себя в таких вещах, что лучше бы моя мать не родила меня на свет; я очень горд, мстителен, честолюбив». И это не напраслина, которую он в порыве самоуничижения на себя возводит. Вспомните, перед самой смертью Гамлет говорит: «Из Англии вестей мне не узнать». Насколько же он одержим идеей мести, если в последние свои мгновения так сожалеет, что не узнает, казнены ли Гильденстерн и Розенкранц! Он умирает как великий грешник, ни в чем не раскаявшись, никому не простив. «Простим друг другу, благородный Гамлет!» — говорит, уходя из жизни, Лаэрт. Но благородный Гамлет не прощает ни Лаэрта, ни короля, ни мать, ни университетских друзей. Он умирает совсем не как христианин.
Критики нашего спектакля могут считать и меня нераскаявшимся грешником. Голосу их я не внял, продолжаю пребывать
Посвященные спектаклю специальные статьи, абзацы и строки в некоторых театральных обозрениях категорично и однозначно протестуют против такого «Гамлета», и, читая оппонентов режиссуры Панфилова, ловишь себя на почти спиритических ощущениях: сквозь строки впечатляющими подробностями возникают и королевская сауна, и лжероды Офелии, и марш-бросок полчищ Фортинбраса, и пьяный в «грехе гордыни», верю абсолютно в правоту того, что сделал. Более того, ту же концепцию «Гамлета» намереваюсь воплотить и в фильме. Наверное, если бы спектакль хвалили, у меня не было бы желания возвращаться к тому же на экране.
Да, критика спектакля оставила в нас всех, кто к нему причастен, тяжелый след. В кино это переживается иначе. Там фильм сделан, его не улучшить, не ухудшить; кто прав, режиссер или его оппоненты, рассудит время. Здесь же мы имеем дело с живыми людьми, актерами, которым надо каждый раз выходить к зрителям, выходить с душевной травмой, под гнетом внушаемого им ощущения никчемности дела, в котором они участвуют. Это трудно. Настоящая критика — это поиск истины, а не убиение спектакля.
Но спектакль идет. Я вижу, как смотрят его молодые зрители. Я мог бы назвать и многих коллег по профессии, режиссеров, актеров, критиков, мнением которых я дорожу, принявших нашу работу. Назову только одного — Милоша Формана, сказавшего, что это единственный из Гамлетов, который ему интересен и близок. Наш спектакль он воспринял в свете той политической вражды, которая раздирает сегодня мир. Ненависть, распри, военное противостояние не приведут ни к чему, кроме как к концу планеты. Возможно, это и есть то главное, о чем нам хотелось сказать. Ненависть неконструктивна. Она ведет лишь к разрушению и гибели. Продолжению жизни служат лишь любовь, понимание, прощение.

 Но сначала о своих собственных намерениях и об их реализации в спектакле. Постановка «Гамлета» для меня результат восьми лет размышлений над пьесой, попытки осуществить ее в кино, в то время оказавшейся, как объяснил мне председатель Госкино СССР Ф. Т. Ермаш, несвоевременной. Благодарен ему за то, что подвиг меня искать такую возможность в театре. Еще более благодарен Марку Захарову, покойному Рафику Экимяну, директору Театра имени Ленинского комсомола, и его коллективу, принявших меня с идеей постановки «Гамлета».
Но сначала о своих собственных намерениях и об их реализации в спектакле. Постановка «Гамлета» для меня результат восьми лет размышлений над пьесой, попытки осуществить ее в кино, в то время оказавшейся, как объяснил мне председатель Госкино СССР Ф. Т. Ермаш, несвоевременной. Благодарен ему за то, что подвиг меня искать такую возможность в театре. Еще более благодарен Марку Захарову, покойному Рафику Экимяну, директору Театра имени Ленинского комсомола, и его коллективу, принявших меня с идеей постановки «Гамлета».
 Возьмем всем хорошо известную сцену в спальне. Королева кричит: «О, помогите!» Полоний кричит: «Эй, люди! Помогите, помогите!» И никто на их крик не приходит. В чем дело? Разве не стоит задуматься над такой странностью? Ведь зовут не случайные люди на улице, а королева и первый министр королевства.
Возьмем всем хорошо известную сцену в спальне. Королева кричит: «О, помогите!» Полоний кричит: «Эй, люди! Помогите, помогите!» И никто на их крик не приходит. В чем дело? Разве не стоит задуматься над такой странностью? Ведь зовут не случайные люди на улице, а королева и первый министр королевства.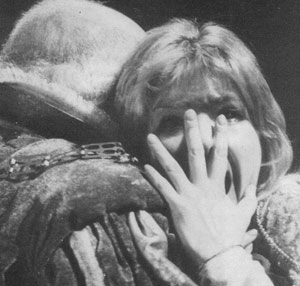 является страшное виденье: ива над потоком, подходит Офелия, развешивает цветы, ступает в воду, плывет, тонет. Эта картина является в ее воображении как галлюцинация, как предвестие, предчувствие грядущей беды. А когда она повторяет те же слова во второй раз (я пользуюсь здесь режиссерским правом на повтор монолога), зритель понимает, что трагическое предчувствие ее навязчиво. Вслед за этим повтором Гертруда и произносит столь важные для нас слова: «Моей больной душе, где грех живет...», теперь они не повисают в воздухе: зритель и сам ощущает, что она больна, что душа ее в смятении и ужасе. {}
является страшное виденье: ива над потоком, подходит Офелия, развешивает цветы, ступает в воду, плывет, тонет. Эта картина является в ее воображении как галлюцинация, как предвестие, предчувствие грядущей беды. А когда она повторяет те же слова во второй раз (я пользуюсь здесь режиссерским правом на повтор монолога), зритель понимает, что трагическое предчувствие ее навязчиво. Вслед за этим повтором Гертруда и произносит столь важные для нас слова: «Моей больной душе, где грех живет...», теперь они не повисают в воздухе: зритель и сам ощущает, что она больна, что душа ее в смятении и ужасе. {}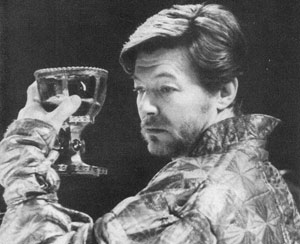 что Гамлет и Клавдий ровесники. Липков в своей рецензии на наш спектакль вполне убедительно обосновал правомерность этого решения. Да, у Шекспира нигде не сказано, что они ровесники. Но у него нигде и не сказано, что они не ровесники. Основной юридический принцип любого демократического государства: «Что не запрещено, то разрешено». Шекспир не запрещает нам возможность такого решения — значит, оно разрешено. Наши оппоненты исходят из иного, авторитарного принципа: «Разрешено только то, что разрешено» — естественно, разрешено исключительно ими же самими.
что Гамлет и Клавдий ровесники. Липков в своей рецензии на наш спектакль вполне убедительно обосновал правомерность этого решения. Да, у Шекспира нигде не сказано, что они ровесники. Но у него нигде и не сказано, что они не ровесники. Основной юридический принцип любого демократического государства: «Что не запрещено, то разрешено». Шекспир не запрещает нам возможность такого решения — значит, оно разрешено. Наши оппоненты исходят из иного, авторитарного принципа: «Разрешено только то, что разрешено» — естественно, разрешено исключительно ими же самими.








обсуждение >>