Настоящее искусство начинается там, где кончаются слова.
«Я стараюсь играть так, чтобы это нельзя было передать словами», - говорит актер, исполнитель роли Зилова, Константин Хабенский.
Говорили, что после
Олега Даля, ранее сыгравшего Зилова, остальным в этой роли делать нечего. Однако, возрождая спектакль на сцене, режиссер МХТ Александр Марин рискнул предложить главную роль талантливому актеру Константину Хабенскому. Именно его исполнение восхитило великого мэтра сцены Олега Табакова, а вместе с ним и тысячи зрителей.
Роль Зилова – это роль, с которой растет не только актер, спектакль. Сам зритель переживает сложные эмоции, когда перед ним разворачивает трагедия души человеческой.
Разочарованный в себе и в жизни, Зилов приходит к пониманию абсурдности бытия.
«Все израсходовано глупо, запоем, раскидано, растеряно. Я слышу, как в груди, будто в печной трубе, воет ветер. Ничего нет страшнее духовного банкротства». И все же единственная страсть, которая еще по-настоящему увлекает героя – утиная охота. Это как цель, как мираж, как болезнь, с которой он никем не может поделиться. Вокруг Зилова живут люди, которых он считает друзьями и врагами одновременно, любит и ненавидит их. Он запутался в них. Он запутался в себе. Запутался в жизни.
А так хочется жить! И понимаешь, что все тщетно и глупо. И эта безысход-ность распространяется на все вокруг. Пока есть мечта, идея об охоте, жизнь имеет еще какой-то смысл, но потом становится совсем пусто, совсем темно.
Олег Ефремов, рассуждая о душевных страдания Зилова, заметил: «Нужно не отталкивание от Зилова, а максимальное приближение к ужасу безверия, который в душе его царит. Его самоказнь страшна, его страдания огромны». А Валентин Распутин добавляет: «У него есть гордость. Но у него не осталось в сердце ни любви, ни святыни…Нерядовая личность, спустившая себя по мелочам, по пустякам…»
Зилов в исполнении Хабенского – это рефлексирующая личность, которая то следует душевным порывам (мечтая о предстоящей охоте), то полностью разочаровывается во всем, а потом и вовсе опускается на самое дно, деградирует. Актеры – К. Хабенский, М. Пореченков, А. Семчев, Е. Панова, Е. Семенова – столь ярко и эмоционально переживали свои роли, что зритель просто не мог оставаться равнодушным. Хабенскому вообще свойственно глубокое погружение в образ. Известны случаи, когда в творческом порыве, актер практически забывал, что это всего лишь игра, театр. Однажды он так вошел в роль, что чуть не пострадали его коллеги по сцене, когда он бил посуду, душил их. Актер сам признается, что именно театр для него и есть настоящая жизнь, где можно испытать и передать неподдельные эмоции.
«Роль, мимо которой прошел и не вспотел, мне не интересна», - говорит Хабенский.
Второй акт был еще сильнее первого. Александр Семчев, несмотря на свою полноту, очень легко и пластично двигался по сцене, а его мимика вообще достойна полного восхищения. Актер играл легко, смешно, местами трогательно.
Понравился Пореченков в роли официанта. По книге официант представлялся грубым холодным человеком, который не способен испытывать эмоций. На сцене же к официанту проникаешься какой-то жалостью из-за его судьбы, а когда Зилов бросает ему: «Лакей!» - понимаешь трагизм личности этой фигуры.
Кроме того, Пореченков показал здесь, что даже маленькая роль может быть сыграна ярко, по-своему. Ведь в пределах всего нескольких строчек он передал характер от человека, способного пошутить
(«Да разве утки живые? Они живые для тех, кто плохо стреляет») до человека трагического и способного посочувствовать.
Несмотря на сложность пьесы и образов, спектакль пришли пережить и юные поколения.
Приятно видеть, что театр становится вновь привлекательным для молодежи. В антракте зрители обсуждают образы, кому удалось наиболее полно передать характер, а кому еще надо разыграться. И пусть кто-то идет в театр для того, чтобы увидеть знаменитостей на сцене…хотя бы так зритель приобщится к классике, почувствует ее вкус. Когда кумирами становятся актеры театра - повышается уровень культуры самого зрителя. Ему уже интересно читать и обсуждать литературные произведения, сравнивать и анализировать, каким герой представился ему по книге и как передал его любимый артист. Сама лично знаю людей, которые таким образом пришли к искусству: пошли смотреть на знаменитого актера, потом прочитали книгу, послушали об этом на канале «Культура» и вошли во вкус. Теперь сами активно интересуются литературой, классическим театром, отечественным кино.
Театр возрождается! И это не может не радовать, когда слышишь, как юные зрители комментируют увиденное на сцене:
«Одним из любимых моментов в книге для меня был тот, когда он за дверью объясняется в любви своей жене, а когда дверь открылась, там опять оказалась эта глупенькая милая девочка....Я думала, сможет ли Хабенский вытянуть эту сцену....Он смог!»
Надеюсь, что в этом процессе постижения театра скоро наступит новый этап, когда люди будут идти не на Хабенского и Пореченкова, а в театр как таковой. Потому что где еще можно пережить так много и так остро всего за два часа!
Ведь театр – это процесс общения актера и зала, обмен духовной энергией. Кажется, там и воздух особый, и все как-то по-особому живет и движется. Даже тишина в театре – это не когда нечего сказать, а многозначительная пауза, после которой будет нечто очень важное, с надломом, проникнутое особым смыслом.
Когда после спектакля я пошла к служебному входу проводить актеров, я встретила там не просто людей, которые пришли-поработали-отыграли роль. Я встретила Зилова, официанта, Веру, Галину, Саяпина – они продолжали жить этими образами. Они только что открыли душу людям, пережили целую жизнь, трагическую, ироничную, несправедливую. И это было не просто лицедейство, когда маска одевается на время спектакля. Это была настоящая жизнь, пропущенная и выстраданная через себя.





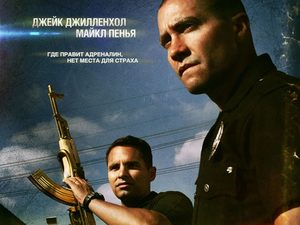




обсуждение >>