"Когда я умру, засыпьте мою могилу осенними листьями», — сказал он однажды жене. Был редким эстетом — люди, знавшие Калинина, отмечают это едва ли не в первую очередь. Но умирать так рано он не собирался — дед Николая Артёмовича прожил 104 года, вынес на плечах несколько войн, и уже одно это было веской причиной для его внука не щадить себя, ежедневно доказывая, что двужильный, что не сломается. Только пережить роковой порог в 37 лет ему, как и всем великим романтикам, было не суждено...
На Восточном кладбище в Минске, где похоронен Николай Калинин, лиственных деревьев почти нет. Возле могилы — одинокая ель. Но каждую осень это место густо укрыто золотистыми листьями — невесть откуда их приносит ветер, старательно укутывая его последнее пристанище. Мистика? А в судьбе Калинина вообще много мистического, необъяснимого, парадоксального.
— Я не сомневался, что когда–нибудь Коля станет одним из самых значимых режиссёров нашей киностудии, — говорит его друг и коллега Дмитрий Зайцев. — Корш–Саблин, который ему всячески покровительствовал, часто отмечал: «Этот талантливый парень — будущее белорусского кино». Но это и так было для всех очевидным. При всей тонкости в Коле была настоящая, крепкая «крестьянская жилка», он был невероятно мобилен, неутомим, готов был много работать и успел сделать столько, что другому за две жизни не успеть. Мы часто говорили ему: «Коля, надорвешься, не надо». А он только отмахивался...
Но в детстве Николай Калинин мечтал совсем не о кино. Кое у кого из бывших односельчан (теперь Корма — районный центр), возможно, и сейчас хранятся его картины — деревенского «художника» часто просили украсить немудрёный крестьянский интерьер, нарисовать по фотографии портрет сына или мужа, погибшего на войне... Окончив школу, он самоуверенно явился в театрально–художественный институт поступать на факультет живописи, но самоучек там не ждали — и Калинин пошёл на тракторный завод, стал фрезеровщиком. Одновременно начал заниматься в театральной студии при Купаловском театре... Свои первые короткометражки он снял тогда же — на телестудии, с которой начал сотрудничать буквально с первых дней возникновения национального телевидения. А в «большое кино» пришёл уже студентом Белорусского театрально–художественного института, куда поступил на курс легендарной Веры Павловны Редлих, возглавлявшей в те годы горьковский драмтеатр в Минске.
— Прежде чем мы встретились, я только и слышала от девчонок: Калинин то, Калинин сё, — вспоминает вдова Николая Артемовича, актриса Русского театра Наталья Чемодурова. — Я заканчивала второй курс, он был на третьем, но уже профессионально работал в кино и как раз подыскивал актёров для нового фильма Турова «Через кладбище» (Коля был вторым режиссёром). Все студентки мечтали, чтобы он обратил на них внимание...
А он обратил внимание лишь на одну. В первое же их свидание Калинин повёл будущую жену на могилу к Павлюку Трусу, чьё стихотворение про «дыяменты–росы» особенно любил. Вообще, литература была для него особенной ценностью, ещё с тех пор, когда на чердаке заброшенной усадьбы у себя в деревне нашёл чудом уцелевшую дворянскую библиотеку... Говорят, даже в юности Калинин производил впечатление чрезвычайно образованного человека, хотя первое время будущий режиссёр не расставался со словарем, сверяя правильные ударения в словах. Только об этом никто не догадывался...
Словом, тогда они пошли на кладбище. А назавтра Наталья Чемодурова повела его на могилу своей бабушки. На его будущую могилу... Через несколько лет Николая Калинина похоронили рядом. Теперь его вдове, тогда абсолютно не склонной к суевериям, во всем мерещатся зловещие знаки. И в тех первых свиданиях, и в гадюке, заползшей под палатку в их первую ночь на Ветлуге, куда они отправились в свадебное путешествие. В последний год, как раз во время съёмок «Кортика», смерть и вовсе ходила за Калининым по пятам: он едва не погиб в жуткой автомобильной аварии, после чуть не сгорел в загородном доме, купленном на первые «постановочные» деньги... Но никто и никогда, вспоминают друзья, не видел его в угнетённом настроении, говорят, таких оптимистов было ещё поискать.
До «Кортика» у него был уже внушительный творческий список: за считанные годы этот деятельный человек поставил несколько ярких спектаклей на сцене Русского театра, сделал несколько телефильмов, успел поработать с Виктором Туровым (позже их фильм «Через кладбище» ЮНЕСКО признает одной из лучших мировых картин о войне), сотрудничал с Владимиром Бычковым, чья знаменитая киносказка «Город мастеров» многим обязана молодому Калинину... А в 1969 году снял свой первый фильм о фехтовальщиках «Сотвори бой», открыв кинематографу Александра Збруева. После чего у него что ни год, то новая картина: «Рудобельская республика», «Идущие за горизонт», «Кортик»...
— Ему не могли простить его молодости, отсутствия вгиковского образования (Коля окончил режиссёрские курсы у Михаила Кедрова в Москве), не давали снимать то, что он хотел, — время было специфическое, — рассказывает Наталья Евгеньевна. — Когда Калинину предложили заняться «Кортиком», он согласился только потому, чтобы потом позволить себе год не думать о деньгах, поселиться на даче и заняться сценарием главного фильма своей жизни, как он говорил...
«Кортик» и «Бронзовую птицу» Николай Артёмович снял меньше чем за год — в советском кино до него с такой скоростью никто не работал. И Рыбаков — автор сценария, и Пожлаков с Окуджавой, написавшие песни к фильмам, так увлеклись процессом, что их сотрудничество с Калининым вскоре перешло в самую искреннюю дружбу. Его вообще любили все — женщины, коллеги, случайные попутчики. Разные люди, знавшие Калинина, рассказывали мне, как щедро он делился деньгами, как мог подарить новую куртку едва знакомому человеку, как однажды чуть не пострадал, приняв ночного хулигана за бездомного скитальца — пригласил его переночевать к себе домой... В домашнем архиве Натальи Чемодуровой хранятся сотни фотографий знаменитых и никому не известных людей, и почти каждая снабжена такой прочувствованной дарственной надписью, что одного этого достаточно, чтобы понять, каким исключительным человеком был Николай Калинин.
Но кто о нем помнит сегодня, кроме близких людей? Что стало причиной забвения — чья–то зависть, неблагодарность, злой рок? Все, кого я просила рассказать о Калинине, поначалу удивлялись — зачем мне это? Ведь десятилетиями о нем никто не вспоминал...
— Однажды он заговорил со мной о розовой чайке, рассказал, что хочет снять фильм по историям Олега Куваева о поисках удивительной птицы... Возможно даже, эта картина сыграла мистическую роль в его судьбе, — откровенничает Дмитрий Зайцев, оператор фильмов Николая Калинина «Рудобельская республика» и «Идущие за горизонт». — Мы разыскали этих чаек где–то у притока Колымы... И вот для одной из сцен нам понадобилась мёртвая птица, но егерь предупредил, что убивать розовую чайку по местным поверьям категорически нельзя, иначе, мол, беды не избежать. Однако сразу же нашёлся неместный охотник, который вызвался «все устроить»...
В своих дневниках Калинин часто размышлял о степени дозволенности в искусстве, признавал, что кинематограф — занятие жестокое, неблагодарное. Но делать кино он определённо умел. Его фильм «Идущие за горизонт» по рассказам Куваева вышел на экраны за год до «Кортика». После премьеры этой картины киностудию буквально завалили письмами — зрители писали Калинину, как его светлый фильм спас их от самоубийства, помог перенести операцию... Теперь режиссёрам такого не пишут, да и фильмов таких не снимают. И люди, похожие на Калинина, судя по всему, — редкость.
— Коля очень хотел экранизировать Короткевича, — вспоминает Зайцев. — С увлечением говорил о романе «Каласы пад сярпом тваiм». Думаю, когда–нибудь он непременно снял бы удивительную картину.
«Каласы пад сярпом тваiм» до сих пор ждут своего режиссёра... "
(Дата публикации: 19.02.2008).
Ирина Завадская



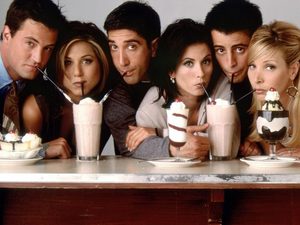



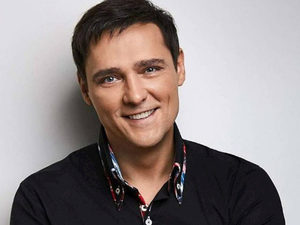





обсуждение >>