...И начать я хочу с рассказа о Якове Марковиче Киржнере. О нем достаточно написано и сказано, он не забыт и не обижен театральными критиками. Но за годы его имя обросло рассказами и легендами в достаточной степени "отретушированными". В результате возник облик человека, не имеющего к Якову Марковичу Киржнеру никакого отношения. Он был настолько яркой самобытной личностью и художником, что не нуждается в ретуши. Эрудит, знаток и собиратель музыки, постоянно окруженный какими - то людьми, он был бесконечно одиноким человеком в общении. Он достраивал мир самим собой, придумывая случаи из собственной жизни, события и встречи, которых никогда не было. Гиперсамолюбие не давало адекватно реагировать на критику.
Не все окружающие понимали его эмоциональные взрывы. Но для меня эмоциональность — это характерная черта творческой личности (хотя психологи считают ее отрицательной характеристикой)... Я вывел алгоритм его вспышек — взрыв, уединение, анализ и возвращение к проблеме на новом эмоциональном витке. Это и помогало нам при общении. А "разборок" у нас было предостаточно. Особенно при выборе пьесы. Спорили при закрытых дверях, иногда по нескольку дней, иногда не выбирая выражений. Но эти споры в большей степени были важны для Якова Марковича, в них закалялись позиции, уточнялись замыслы. После принятия общего решения я был первым исполнителем и помощником в работе над спектаклем. Самым ценным для меня качеством была независимость Киржнера от чужого мнения, хотя иногда он и оглядывался на начальство. Он был прекрасным оратором, любил внимание слушателей и платил им занимательностью бесконечных историй. Любил импровизировать, что во многом определяло его режиссерский метод. На репетиции пытался сблизить свое внутреннее видение с индивидуальностью актера, что не всегда правильно понималось актерами, а потому раздражало. Казалось, что эпизод родился из случайных, сиюминутных совпадений, но придуман он им был еще в период работы над пьесой.
Многие режиссеры любят работать с актерами, но режиссер Яков Киржнер при выборе пьесы опирался только на яркую индивидуальность актера. Хотя надо подчеркнуть, что для него, как режиссера, особую роль всегда играло художественное и музыкальное оформление спектакля.
Нельзя сказать, что при выборе пьесы Киржнер не думал об успехе для себя, но соотносил его с возможностями актеров и театральной конъюнктурой. Он редко использовал актеров "на сопротивление", всегда учитывал индивидуальности. И умел так занять их в репертуаре, что каждый актер, считавший себя ведущим, был занят в постановке художественного руководителя театра. Я любил и уважал его. Мы многое пережили вместе. Особенности наших характеров делали общение бурным. Но мы никогда не держали "камня за пазухой" и все высказывали друг другу в глаза. Мало кто знает, но самым строгим и беспощадным судьей себе был он сам. Не всегда этот суд был справедливым, что делало некоторые ситуации особенно болезненными. То, что он оценивал как неудачу, убивало его. А неумная лесть добивала.
Но по - настоящему объединяла нас любовь к актеру. Для Якова Марковича Киржнера эта любовь определяла всю творческую жизнь. Может, поэтому он и остался для меня Главным Режиссером Омского Академического.
Мигдат Нуртдинович Ханжаров
С 1962 по 1987 годы — директор Омского театра драмы.
...Киржнер меньше интересовался театральными эффектами и трюками, приемами постановочными, порою, уверена, сознательно ограничивал в этом плане свою фантазию, направляя ее на самое существенное — поиск нового характера. В работе с актерами над ролью он был режиссером - исследователем и всегда знал, ради чего он ставит ту или иную пьесу.
Актеры... И при жизни Якова Марковича, и после его смерти они всегда говорили о нем по-доброму, но весьма живописно. Не упоминая имен (ибо что не происходит за кулисами!), попробую воспроизвести их высказывания, дабы передать своеобразие натуры Киржнера.
"Он был врун! Все великие евреи были его родственниками: "Да у меня Эфрос — двоюродный брат! И с Товстоноговым я в родстве! С Гогой!.."
"Игрок — и в жизни, и на сцене. Обожал играть... Несколько раз играл Бориса Годунова — в своем спектакле. Вел "Энергичные люди", любил декламировать стихи. "Я — актер - чтец высшей категории! Не веришь?"
"Громкий, жизнелюбивый, открытый, очень демократичный и непосредственный: каждый человек ему был интересен".
"Любил женщин..."
"Много знал и читал. Обожал историческую литературу, фантастику, детективы".
"А к болезням относился — как все мужчины: в сердце едва кольнет — хватается за пульс. В Омск приехал после первого инфаркта... И в то же время мог и курить, и репетиции затягивать, и ночами работать, никакого внимания не обращая на свое здоровье".
"Дома общался в основном с людьми нетеатральными — технарями, инженерами. Говорил: этот народ и жизнь знает, и в общении проще".
"Занимался столярным делом, фотосъемкой, трубки коллекционировал, цветомузыкой увлекался — в его квартире была лучшая по тем временам музыкальная аппаратура. Игрой в нарды заразил всех актеров. Когда стали опаздывать на репетиции, распорядился нарды похоронить. Устроили шествие: торжественно и печально, напевая соответствующий марш, понесли нарды к помойке. Нес их сам Киржнер, а мы цепочкой тянулись за ним..."
"Не надо его обожествлять! Как все нормальные люди, он был ленив... А мы, что ли, не ленивы?!.. Брал пьесу — загорался, а потом к ней остывал. И — не скрывал этого, не "гнал картину"!"
"Да что там говорить! Ведь наступил момент, когда в Омске интерес к театру снизился — это до Киржнера было. А он сумел вроде и требованиям соответствовать, и театр создать. По всей стране гремели! Помните, как Прибалтика нас принимала?.. Его театр — это крупный театр..."
"А зрителей он к спектаклям очередных режиссеров как ревновал!"
"Как ни ревновал, а тыл обеспечивал: позволял ставить, что им хотелось. А не получалась у кого-то работа, "засучивал рукава" и сам включался: иногда проигрывал, а чаще — вытягивал спектакль". "Считал: главный режиссер отвечает за все!"
"Он был профессионал! В сценарии Анкилова из четырехсот сделал пятьдесят страниц, по сути, переписал "Солдатскую вдову" — и очень хороший спектакль поставил".
"Он владел методологией, умел помочь актеру: результат не торопил, не насиловал тебя. Поджидал природу. Вот и получались образы, а не картонные "герои".
Слушаю и думаю: а ведь он мог бы сделать больше, если бы... Как все - таки его не берегли! После спектаклей устраивали какие - то "зрительские конференции". Выезжали на творческие встречи в Дома культуры, клубы, институты, школы. Отправлялись с концертами в села, на стадионы, а на гастролях — в колонии, к заключенным. И он вел все эти конференции, концерты. Зачем?
При всей его хитроумности он не обманул свое сердце, оно отказало ему в 58 лет.
При всем его лукавстве в нем было что - то настоящее, прямое, негнущееся, и это что - то как раз и являлось в нем главным, заставляло искать правду характеров и ситуаций, утверждать на сцене добро, бичевать зло. Это настоящее, искреннее, талантливое проявлялось в самом подлинном его деле — на репетициях. И это же настоящее чувствуешь и в выступлениях Якова Марковича на заседаниях художественных советов.
4 марта 1968 г. Повестка дня: обсуждение генеральной репетиции спектакля "Ночная повесть" К. Хоиньски. Первое выступление Киржнера на художественном совете.
"Нет четко реализованного замысла. Эта пьеса — о гражданском мужестве. Один преодолевает страх, другой — нет. Актерски пьеса не проработана. Обидно: театр рождается только в содружестве актера с режиссером... Не нравится оформление. Оно сделано довольно изобретательно, но оно стилизовано, а способ игры — обычный, натуралистический... Моя точка зрения: пьеса громадного значения, общечеловеческого. За персонажами — крупные категории. Страх рождает бессилие одних и осознание силы у других: так начинается фашизм. Пьеса очень сложна для молодого режиссера, у меня такое ощущение, что в процессе работы забыт актер. Но для паники, считаю, нет места, будем работать."
5 мая 1968 года. Обсуждение пьес "Дуэль" М. Байджиева и "Смерть Иоанна Грозного" А.К. Толстого.
"При составлении репертуара мы имеем в виду необходимость серьезного и интересного разговора со зрителем. Ибо сегодня спектакль о том, что дважды два — четыре, никому не интересен. Артист должен иметь полноценный драматургический материал, чтобы стать властителем дум. Алексей Федорович Теплов прав, что обстоятельства искусственно сгущены в "Дуэли". Это мелодрама, и ставить ее надо не как философскую пьесу, а как умную мелодраму. Внутри пьесы — большая моральная тема, и в то же время она общедоступна... По поводу замечания Григория Михайловича Гриценко о теме культа в "Грозном". Хотим мы этого или нет, какие - то аналогии просматриваться будут. Но мы делаем спектакль не о культе личности. Это сегодня неинтересно. Я хочу ставить спектакль, в центре которого будет Грозный (иначе это будет в противоречии с автором), но идеологически, не сюжетно, важнее Годунов. Этот спектакль двух: Грозного и Годунова... Итак, я стою за остроту и принципиальность в подборе репертуара, за активный театр."
7 апреля 1968 года. Обсуждение генеральной репетиции спектакля "Хочу быть честным" В. Войновича.
"Примета времени сегодня: говорить со сцены хрестоматийно нелепо. Только мысль заинтересовывает. Мы не боимся говорить о недостатках и этим сильны... С чем уйдет зритель со спектакля? Утверждаю: с мыслью — великолепно быть честным! Настораживает акцентирование при обсуждении эпитета "острый". Но ведь театр и должен быть острым. Зритель перерос прописные истины."
28 сентября 1968 года. Утверждение репертуарного плана на сезон 1968—69 годов.
"Задача предстоящего сезона: выработка настоящих критериев творчества, борьба со штампами, художественной однолинейностью. Это задача не одного сезона... Обсуждение разочаровывает. Хотелось бы слышать мнение не столько об идеологической выдержанности репертуара (так как она должна быть несомненной), сколько о мере зрительского интереса — в высоком смысле этого слова. Возражаю Хлытчиеву: как это "Сирано" может не вызывать зрительский интерес? Брахману: почему это "Смерть Иоанна Грозного" не представляет русскую классику?.. У нас в текущем репертуаре есть "Старик" Горького. Только эксплуатировать его надо иначе — играть не реже раза в месяц... Чехов и Островский придут в нашу афишу... Недостает современных советских пьес. Называйте их, смелее давайте собственные предложения. Мы ставили и будем ставить "некассовые" пьесы, но важно соотношение. Мы работаем не для себя, а для зрителя. Если зритель не смотрит серьезный репертуар, это тоже не слишком хорошо. Шейн покачнул театр, он оказался режиссером ниже уровня Хигеровича, но он вернул в театр зрителя, который совсем перестал сюда ходить. Я обязан учитывать зрительский интерес."
Из статьи Я.М. Киржнера "Подвиг народа", опубликованной в сборнике "О времени и о себе". М., ВТО, 1977 г.
"Сразу же по приезде в Омск я столкнулся с пожеланиями многих зрителей увидеть на сцене нашего театра образ Д.М.Карбышева. Карбышев родился в Омске, здесь, в семье военного чиновника, прошли его детские годы, здесь он окончил кадетский корпус. Здесь начиналась его биография... Название напрашивалось само — "Так начиналась легенда"... Мы очень боялись ложной патетики, своеобразной железобетонной декларативности сцен Карбышева. Исполнитель главной роли Александр Щеголев сумел найти убедительные и сильные краски. Природа подвига — вот что нас интересовало...
... После госпиталя, перед отправкой на фронт, я находился в одном из эвакуированных украинских колхозов. Живут трудно, впроголодь, а нам последних кур режут. Говорим председателю: "Зачем такие жертвы?" — "Надо... Вам воевать скоро. Не я решал, бабы..." "Так вот: когда я приступил к работе над "Солдатской вдовой", как - то сразу определился у меня в сознании образ главной героини. Почему - то я представил ее себе некрупной, физически даже хрупкой..."
Один из любимых его актеров: "Он не мог работать по состоянию здоровья. Театр был близко, но для него уже недоступен. Разлуку с театром он переживал тяжело. И сердце не выдержало..."
Светлана Яневская
...Наконец, пришла телеграмма: "Ясную Поляну будем ставить надо увидеться режиссерском совещании Киржнер".
...Высматриваю Киржнера. "Яков Маркович!" В ответ слышу: "Нам очень надо поговорить!"
У Якова было хобби - звукозаписывающая аппаратура. Он знал всех московских жучков, специализировавшихся по этому делу. Результатом его тайных общений с ними были громоздкие звуковые колонки, которые он складировал в нашей квартире, мы тогда жили уже в Сокольниках, а потом волок их на себе в Омск. Он уверял, что они гораздо более совершенны, чем те, что он достал в прошлый раз.
Мы сразу перешли на ты.
- Понимаешь, - говорил он дома за ужином, - никогда бы не взялся, если бы в труппе не было Щеголева. Щеголев - великий, это для него. Ты не видел, как он играет Карбышева! Еще увидишь. Он прочитал "Ясную Поляну", весь дрожит. Дома у себя музей Толстого сделал. Все читает, говорит только об
этом. А его Надежда, жена, тоже актриса - я тебе скажу, хочет играть Софью Андреевну.
Большие роговые очки не скрывали отсутствие у Якова одного глаза. Он
снимал очки, прикрывал слепой провал ладонью, потом запускал пальцы в курчавую шевелюру и вопрошал, понижая голос:
- Мы что, действительно, первыми покажем Толстого на сцене? Ермоловский не опередит? У них некому играть? А у нас есть! Мы еще и в Москву привезем...
Однажды, в очередной приезд, укладываясь на тахте в гостиной, он поделился тем, что его явно мучило:
- Провели читку, роли распределили, а я все думаю: Хайкин уступил пьесу мне, ты, говорит, у нас главный - тебе и право первой ночи. Вот я взялся за такое дело... Ведь тут и приложиться недолго. Тут ведь столько надо бы всего изучить, такую гору перелопатить, если всерьез - на это же годы потребуются!
И когда выпущу спектакль? Где выход?..
- В пьесе выход, Яша!
Возможно, тогда был решающий момент для судьбы "Ясной Поляны".
Режиссерские сомнения могли вдруг одержать верх над отвагой, слишком прямолинейно понятая добросовестность могла отринуть от интуитивно смело выбранной цели.
- Доверься пьесе, - стал я объяснять не без волнения. - Тебе не надо тратить годы, потому что эти годы уже потратил я. В пьесе все написано, все, о чем ты говоришь, уже в нее уложено. Забудь, что имеешь дело с персонажами, обросшими легендами. У них у каждого уже есть свой характер, позиция, линия поведения, они там уже выписаны, осталось выявить и показать. Да, главный герой гений, но в совокупности показанного, зрители должны начать сострадать ему, должны полюбить его, как ставшего по-настоящему близким им человека.
Если это случится, то - все! - мы победили!..
- Может быть, ты прав, тут перенапрягаться опасно... - сказал Яша и больше не возвращался к этой теме.
Иногда спрашиваю себя: а почему именно он, этот одноглазый курчавый человек из провинции, оказался первым на Руси, кто взялся в театре воспроизвести живого Толстого? Откуда эта смелость, независимость - ведь его, как и меня, наверняка активно отговаривали и в меру пугали?
А он и по жизни был независимым, отважным и упрямым. Рожденный в 1921 году - этот год призыва практически весь был выбит на войне - Яша Киржнер прошел Великую Отечественную от звонка до звонка, причем не в генералах, а в гвардии старших сержантах, да еще и в разведке. Дважды был тяжело ранен.
Кое-как подлеченный в госпиталях, возвращался на передовую. Повезло, остался в живых, хоть и без одного глаза, и с самыми солдатскими наградами на груди - медалью "За отвагу", орденами "Красной Звезды" и Отечественной войны.
После демобилизации, изуродованный, экстерном закончил юридический факультет Ленинградского университета. Какова жизненная цепкость! Но и этого ему было мало. Он снова стал студентом, на этот раз режиссерского факультета театрального института имени Луначарского в Москве, и в 1952 году получил диплом с отличием.
До Омска он побывал главным режиссером в драматических театрах Пскова и Рязани.
Войсковой разведчик, он взял "Ясную Поляну" и отправился в новую разведку - в театральную.
Даль Орлов










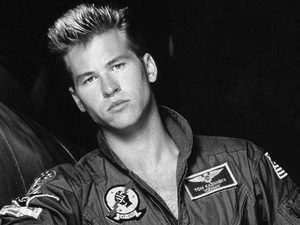






обсуждение >>