
Рецензии на фильмы
Фильм автора так и не вышедшей в российский прокат «Нуучи» Владимира Мункуева и оскаровского номинанта Максима Арбугаева

Анимация
Мистический детектив в декорациях викторианской Англии вернулся с новым сезоном

Спутник телезрителя
12 апреля, 10:30, МАТЧ!

Лайфстайл
Пара воспитывает сына Петра и дочь Павлу

Главная тема
А какая работа мэтра больше всего впечатлила вас?

Лайфстайл
У актрисы широкий спектр прикладных навыков
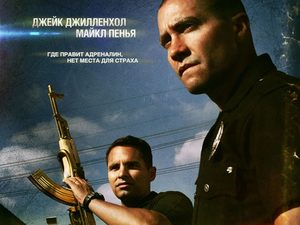
Спутник телезрителя
В ночь с 14 на 15 апреля, 01:55, ТНТ

Спутник телезрителя
В ночь с 13 на 14 апреля, 02:20, .Black







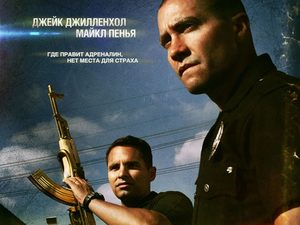

обсуждение
Дорогой мой учитель!
Из моей книги "Перешагнув судьбы экватор..." Изд. У-Фактория, 2002 г.
Евгений Агуров,
или
Веков связующая нить...
На вступительных экзаменах в Свердловском театральном училище его кресло стояло в стороне, противоположной столу приемной комиссии. Таким образом, он оказывался за спиной взволнованного и зашоренного абитуриента, не замечавшего Мастера. Издали наблюдая за ходом экзамена, он что-то помечал в своем блокноте и вдруг не-ожиданно обнаруживал себя каким-то заданием или репликой. Потом медленно поднимался, вырастая в огромного благородного старика, подходил к юнцу, мечтающему об актерской профессии, клал на его плечо свою большую изящную руку и начинал беседовать... Волнение, испуг притуплялись.
Это было в августе 1978-го. После зачисления — первая встреча с курсом...
Зная, что нашему учителю вот-вот исполнится восемьдесят, мы никак не могли в это поверить. Высокий, в строгом костюме, бодрой походкой вошел он в аудиторию. В его лице было столько же добродушия, сколько строгости и требовательности. Живой, острый взгляд... Чуть приподнятые в ироничной улыбке уголки рта... Отказавшись от предложенного кресла, он по-молодецки уселся на краешек стола.
Таким мы запомнили Агурова, таким мы часто вспоминаем его, встречаясь с однокурсниками. Таким мы полюбили Евгения Николаевича на всю жизнь, и любовь эта выстояла в мелких конфликтах и обидах, случающихся во всяком учебном процессе. Любовь эта крепнет с каждым годом. Чем взрослее становимся, тем чаще вспоминаем уро-ки Мастера и убеждаемся в его правоте.
О чем говорил он тогда, в первую нашу встречу? О воспитании в себе внутренней потребности неустанно работать над собой — каждый день, каждый час, каждую минуту. Учиться преодолевать трудности, и еще о многом... О том, что проповедовал всю жизнь, обращая в свою веру людей, преданных театру. За время экзаменов мы успели наслушаться о нем множество легенд и уже тогда, в первую встречу с учителем, стали понимать, что судьба подарила нам счастливую возможность общения с уникальным и та-лантливым человеком.
То, о чем могли мы узнать лишь из учебников и исторических книг, хранила память Евгения Николаевича. Биография Агурова — история двадцатого столетия. Вместе со своими товарищами-гимназистами он приветствовал в Тифлисе путешествующего по Кавказу императора Николая Второго. С не меньшим восторгом аплодировал гастролерам — звездам оперной сцены того времени.
Свою раннюю любовь к театру Евгений Николаевич делил между драмой и оперой. В Тифлисе была первоклассная опера с великолепным хором, оркестром, прекрасными дирижерами, сильным балетом, не говоря уже об именитых солистах и репертуаре, достойном их дарования. Все сезоны театр работал на аншлагах.
— Главное удовольствие я испытывал от актеров, от того, как легко преодолевали они самые трудные пассажи, легко брали высокие ноты, — вспоминал Евгений Николаевич. — Словом, поначалу меня больше увлекала техника исполнения, волнение же я испытывал редко.
Но с приездом на гастроли в Тифлис Ф. Шаляпина вкусы юного Агурова стали меняться. Шаляпин произвел на него ошеломляющее впечатление. Сила воздействия его была такова, что из зрителя Агуров стал соучастником происходящего.
— Есть такое выражение — «зашевелились волосы на голове». Это я буквально испытал на себе, когда слушал, как Шаляпин пел «Старого капрала» Даргомыжского, — рассказывал Евгений Николаевич. — Поговаривали, что якобы голос его не был силен, не знаю... Своим голосом он заполнял весь зал. Причем, слушая его, я ощущал, что поет он для меня одного, словно ведет со мной интимный разговор. Пел он без всякого напряжения, поразительно легко, свободно, создавая при этом образы необычайной силы.
Агуров считал, что грамзаписи дают приблизительное представление обо всем великолепии дарования певца. При прослушивании записей своего кумира ему казалось иногда, что певец любуется своим голосом, мастерством, что напрочь отсутствовало при живом исполнении. Евгений Николаевич как-то высказал предположение, что, очевидно, Шаляпин не любил записываться. Ему нужно было общение со зрителем, присутствие которого вдохновляло его на творчество.
Шаляпин заставил Агурова иначе посмотреть на профессию оперного певца. То же самое произошло и в балете. Ему посчастливилось видеть на сцене великолепных танцовщиц и танцовщиков, но если раньше он любовался только техникой исполнения, то, увидев Гельцер в «Корсаре», стал воспринимать танец иначе. Очевидно, техника балерины была настолько совершенной, что не замечалась зрителем. Гельцер жила в танце. Танец для нее становился совершенной формой, через которую выражалось содержание, являясь мыслью, чувством, побуждением создаваемого ею художественного образа.
Это Агуров хорошо понимал уже в зрелом возрасте, когда делился с нами своими воспоминаниями, а в юности, не рассуждая, просто получал подлинное наслаждение от новых впечатлений.
Так формировались его вкусы, зрело решение посвятить себя искусству. Этому выбору способствовали и события 1917 года. Агуров из тех дворянских детей, что после Октябрьской революции и Гражданской войны нашли в театре применение своим изысканным манерам и непролетарскому интеллекту.
В канун одной из годовщин революции, будучи редактором студенческой газеты «Рампа» и готовя праздничный ноябрьский выпуск, я попросил Евгения Николаевича поделиться воспоминаниями об историческом событии, свидетелем которого ему довелось быть (Агуров родился в 1898 году, в октябре 1917 года ему было девятнадцать). Евгений Николаевич молча выслушал меня, а через несколько дней принес маленькую записку следующего содержания:
«К сожалению, я не был свидетелем октябрьских событий — в то время я жил на Кавказе, а в Баку советская власть пришла в 1919 году.
Не сразу я понял и осознал всю масштабность происходящего, а осознав, восхитился гениальностью великого Ленина, мужеством и героизмом пролетариата, благодаря чему Россия из отсталой, полуграмотной страны превратилась в светоч для всего мира. Агуров».
Сейчас я чувствую мудрую иронию Мастера, а тогда записка эта вошла в очень серьезную передовицу.
Творчество театрального артиста сиюминутно, но оно остается в памяти зрителей, в театральных программках, рецензиях, фотографиях. У Евгения Николаевича подобных реликвий было множество, но и они, как оказалось, лишь некоторая часть того, что удалось сохранить, пройдя через все мытарства...
Москва двадцатых... В 1922—1925 годах Евгений Николаевич работает актером в Сокольническом драматиче-ском театре (бывшем «Тиволи»), в Московском театре имени Карла Либкнехта (Ермаковский народный дом), в Сретенском общедоступном драматическом театре (Сретенка, 26), об открытии сезона в котором писалось: «...Труппа значительно пополнена и усилена. Приглашены С. В. Неволина, М. М. Сарнецкая, П. В. Брянский, Е. Н. Агуров».
Помню пожелтевшую от времени вырезку (еще с «ятями») — рецензию на один из спектаклей Бакинского рабочего театра (БРТ): «Актеры, как говорят, были в ударе. Особенно это относится к Снежиной, Раневской, Агу- рову».
Надпись под фотографией молодого Агурова: «Премьера в БРТ. К. Тренев. «Любовь Яровая»... Яровой — Е. Агуров, постановка В. Федорова». (Того самого Федорова, ученика В. Э. Мейерхольда.)
Рецензия на общественно-бытовое обозрение Типота, Гутмана «Спокойно, снимаю»: «...Гротеск, шарж, пародия, трюк, балетный танец, куплет, музыкальный мотив — все это в разных пропорциях сплетается в одно художественное целое, эффект которого несомненен... Хочется особенно выделить Агурова, Раневскую...»
В отзыве на спектакль «Яд» по пьесе А. В. Луначарского газета «Бакинский рабочий» писала: «...Продуманно передал Ферапонта Агуров и определенно тонко дана Полина Раневской...»
Об этой работе Фаина Георгиевна вспоминала с волнением, как о счастливых днях театральной молодости, восторженно говорила о своем партнере. Как-то она сказала: «Все самое прекрасное в работе в провинции у меня связано с Женей Агуровым». Однажды Евгений Николаевич получил трогательную открытку от своей давней партнерши, в которой были такие строчки: «...С памятью у меня всегда было плохо, но хорошо помню, что всегда Вас любила...»
Не знаю, ответил ли тогда Евгений Николаевич Раневской? Не знаю, правильно ли сделал я, попросив ее как-то написать Агурову, не откладывая, и тут же продиктовал его свердловский адрес?
Мне казалось, что Агурову, оставшемуся без дела (наш курс в театральном училище был последним), вынужденному наедине со старостью анализировать свою жизнь, нужна был поддержка более удачливой, на мой взгляд, Ранев-ской... Но Евгений Николаевич, после моего приезда в Свердловск, показал мне эту открытку с иронично-снисходительной улыбкой.
У мастеров, переживших так много, свои отношения и с прежними партнерами, и с жизнью... Как-то, пробравшись за кулисы Театра имени Моссовета в артистическую к Ростиславу Яновичу Плятту и попросив у него автограф, я похвастал, что несколькими часами назад гостил у Раневской. Плятт, не поднимая глаз от обложки журнала — своего портрета — и оставляя на нем слова пожеланий, спокойно спросил: «А что, она еще жива?»
Старые мастера мудры и ироничны...
Агуровых было двое — Николай и Евгений... И оба подались в актеры. Дабы не вводить поклонниц в заблуждение, один из братьев взял псевдоним Волков. С этой фамилией и вошел в историю отечественного театра и кино. Помните Доктора в «Последнем деле комиссара Берлаха» (кстати, озвучивал эту роль Агуров) или Хоттабыча в знаменитой экранизации? Это Николай Николаевич Волков-старший. Его сын Николай Николаевич Волков-младший, племянник Е. Н. Агурова, стал популярным после знаменитых спектаклей А. Эфроса на Малой Бронной и многочисленных ролей в кино.
Основоположники династии в самом начале своей карьеры испытали на себе все новшества молодых и дерзких реформаторов театрального искусства, но обрели себя в преданности школе Станиславского, действенному анализу пьесы («Что я делаю на сцене, чего хочу?!»). Довелось им понаблюдать из-за кулис за легендарными братьями Адельгеймами. В архиве Евгения Николаевича я видел телеграмму — приглашение в Нижегородскую труппу от знаменитейшего антрепренера Собольщикова-Самарина. Агуров считал, что именно ему он обязан своим становлением.
В Нижнем Новгороде Евгений Николаевич встретился с интереснейшим режиссером Ефимом Александровичем Бриллем. Затем их пути пересеклись в Ростове. Брилль стал художественным руководителем театра, Агуров начал пробовать себя в режиссуре.
Ростовская труппа была очень разрозненной, неровной. Бриллю и Агурову пришлось приложить немало усилий, чтобы собрать ее в единое целое.
Евгений Николаевич любил вспоминать один случай. Ведущая актриса ростовской труппы, инженю-драматик, была очень способным человеком — эмоциональная, с прекрасными внешними данными, великолепным голосом. Но на сцене работала раз и навсегда заготовленными приемами. К каждой своей роли она подходила с готовым решением — здесь нужно порадоваться, здесь пострадать. Она все изображала. Ею владела стихия игры. Не разбираясь в происходящем, она играла «вообще». Агуров заставлял ее отказываться от привычных приспособлений, что доставляло актрисе невероятные мучения. Ей было неудобно, трудно, и она возненавидела Агурова. Но как-то в работе над спектаклем «Жди меня» по К. Симонову, мучась над главной ролью, она сказала себе: «Хорошо, я послушаю этого ненавистного мне человека, я постараюсь понять, чего он хочет, чего добивается от меня...» И роль пошла. Спектакль стал удачей и постановщика, и исполнительницы.
Во время войны Е. А. Брилль назначается главным режиссером Свердловского драматического театра. Вслед за ним приехал в Свердловск и Агуров. Евгений Николаевич сразу же вошел в число ведущих исполнителей. Его Иван Грозный в постановке Брилля «Великий государь» по пьесе В. Соловьева, профессор Полежаев — герой одноименного спектакля по пьесе Л. Рахманова, Ульрих из спектакля «Семья Ферелли теряет покой» Л. Хеллман, Каренин из «Анны Карениной» (по Л. Толстому), Лемм из «Дворянского гнезда» (по И. Тургеневу) и многие другие роли, виртуозно сыгранные Агуровым, дали повод и зрителям, и критикам, и коллегам говорить о нем как об очень умном, тонком, интеллигентном актере и человеке.
Поразительно, как много успевал Агуров в Свердловске. Будучи актером, в послевоенный период (1945–1949 годы) он осуществлял от двух до четырех постановок в год. В историю Свердловской драматической сцены вошли многие спектакли Агурова: «Бессмертный» А. Арбузова, «Факир на час» В. Дыховичного, «Молодая гвардия» А. Фадеева, «Последняя жертва» А. Островского, «Все мои сыновья» А. Миллера и многие другие. Причем в «Профессоре Полежаеве», и в «Семье Ферелли...», и в «Анне Карениной», и в «Дворянском гнезде», и в «По-следней жертве» он был един в двух лицах — и постановщик, и исполнитель центральной роли, что редко кому удавалось делать достойно.
Его спектакли отличались четкой действенной линией, точным проникновением в замысел пьесы, и всякий раз — открытием новых граней в исполнителях.
В ту пору в свердловских киосках продавались фотографии ведущих актеров драмы, музкомедии. Несколько лет назад, в одном домашнем архиве я увидел карточку Агурова, сохранившуюся среди других семейных реликвий. А еще помню снимок в фотоальбоме Учителя — он в берете и длинном пальто, курит «беломорину», сидя на скамейке, а рядом — любимая жена Евгения Вячеславовна Иванова и собака Динга.
В зрелом возрасте пути братьев — Агурова и Волкова — на некоторое время разошлись. Николай Николаевич Волков долгое время жил и работал в Одессе, потом переехал в Москву. Подался в столицу и Евгений Николаевич.
Почему не остался в Свердловске? Причин тому, полагаю, было немало. Можно было предположить, что на
его решение повлияло увольнение Брилля. В 1950 году Ефим Александрович решил инсценировать лучший из романов Д. Н. Мамина-Сибиряка «Приваловские миллионы». Москва дала разрешение на постановку. Роль Привалова была поручена Борису Ильину. На просмотр спектакля приезжали столичные литературоведы, изучавшие творчество уральского писателя, положительно отозвались они и о пьесе, и о самом спектакле. Премьера состоялась осенью 1950 года, успех был огромным, спектакль даже выдвинули на соискание Государственной премии. Летом 1951 года театр выехал на гастроли в Москву. По-сле «Приваловских...» в «Правде» вскоре вышла статья Н. Абалкина «Об одном неудачном спектакле», в которой указывалось, что Брилль не понял высказывание Ленина о творчестве Мамина-Сибиряка и спектакль получился «...безыдейным, вульгарно-социологическим, глубоко чуждым нашему театру...».
По возвращении в Свердловск Е. А. Брилль получил выговор и был освобожден от занимаемой должности.
Но Агуров, пожалуй, уже был далек от этих событий.
Очевидно, он уехал еще в 1950 году, после закрытия недолго просуществовавшего Уральского государственного театрального института. Агуров вместе с Евгенией Вячеславовной преподавали мастерство актера сначала в студии при театре, а затем и в институте. Ректором института был В. Прокофьев — известный театровед, исследователь наследия Станиславского. По каким-то причинам впав в немилость властей, он был «сослан» на Урал, организовал институт, которым сам впоследствии и руководил, а когда у него появилась возможность вернуться в Москву, доказал властям нецелесообразность существования театрального вуза в Свердловске. Если бы не это событие, Агуров бы не уехал. На втором году обучения он бы не бросил учеников на произвол судьбы. Да и многие студенты, среди которых были Валерий Сивач, Владимир Чермянинов, Семен Уральский, Арнольд Курбатов и многие другие, в будущем известные актеры, неохотно пере-водились в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кино.
Следует принять во внимание и то, что в 1947 году Агуров снимался на Свердловской киностудии в фильме Ивана Правова «Алмазы». Его партнером был известный актер театра и кино, режиссер, педагог Василий Ванин. Судя по всему, они нашли общий язык. Евгений Николаевич понравился Ванину. Когда Василий Васильевич возглавил в Москве Театр имени Пушкина, Агуров написал ему письмо (видимо, все-таки под впечатлением закрытия института) и был приглашен в труппу театра. Но скорая смерть Ванина (его не стало весной 1951 года) оставила нереализованными многие творческие замыслы. Агуров перешел в Театр имени Гоголя (в ту пору он назывался Театром транспорта), снимался в кино. Особо памятной для него была работа с А. Эфросом, пригласившим Евгения Николаевича на одну из центральных ролей — Бартошевича в свой фильм «Високосный год». Но, очевидно, самыми плодотворными стали годы работы на Всесоюзном радио. Агуров всегда испытывал азарт в работе над словом, фразой, положенными на действие, и радио давало творцу возможность насладиться этим пиршеством. На Всесоюзном радио он подружился с Н. Литвиновым, вместе с корифеями — С. Бирман, М. Бабановой, Н. Мордвиновым и другими осуществил несколько радиопостановок, вошедших в золотой фонд отечественного радио.
Один из спектаклей — «Крошка Доррит» с Баба-новой и Агуровым — до слез волновал меня в детстве. Я еще не знал ни названия инсценировки, ни фамилий ис-полнителей, но пронзительный голос из радиоприемника, заполнявший темную квартиру, звал в неведомое, отзывался в моей груди: «Могу я выйти за ворота?.. Я задыхаюсь без воздуха, мне нечем дышать...»
Эту пронзительную интонацию я буду помнить до по-следних дней: «Эмми! Эмми! Я ничего не вижу!..»
Ах, превратности судьбы! На первом курсе театрального училища, когда мы отмечали восьмидесятилетие Учителя, на юбилейном вечере Агурова в Доме работников искусств на улице Пушкина был воспроизведен фрагмент записи этого спектакля, и я чуть не свалился в обморок от неожиданности: голос из моего детства принадлежал Евгению Николаевичу!
Агуров был очень увлеченным педагогом. Когда племянник Евгения Николаевича Николай Волков учился в Театральном училище имени Щукина, то нередко со своими однокурсниками, среди которых был и совсем юный Андрей Миронов, приходил к дядьке заниматься этюдами — самым сложным этапом в дисциплине «Мастерство актера». Агуров тогда вел студию при Московском клубе МВД. А самые первые его ученики уже становились именитыми служителями театра. Кстати, еще в послевоенном Свердловске у него учились А. Соколов, долгие годы возглавлявший Свердловский драматический театр, известный режиссер музыкального театра В. Курочкин, кинорежиссер В. Мотыль и многие-многие другие...
Евгений Николаевич очень дорожил большой цветной фотографией — кадром из фильма «Белое солнце пустыни». Она стояла за стеклом книжного шкафа в его комнате. Сухов склонился над головой Саида, по горло зарытого в песок, а на фоне голубого пустынного неба — слова благодарности дорогому Учителю от режиссера популярной киноленты. Выцветающие от солнца чернила не раз подправлялись аккуратной рукой Евгения Николаевича.
А вот отношения Агурова и с Соколовым, и с Курочкиным для многих остались загадкой. В начале семидесятых, после мучительной смерти жены Евгении Вячеславовны, Агуров решил вернуться из столицы в Свердловск, к приемной дочери Кире. Съехавшись в одной большой квартире с дочерью, внуком, невесткой, правнуками, он, конечно, был счастливым дедом и прадедом, но разве стоила что-нибудь его жизнь без творчества!
Наверное, Евгений Николаевич мог бы поставить не один спектакль в Театре драмы. Вероятно, он ждал предложения. Но оно, судя по всему, не последовало. Проигнорировал возвращение Агурова и Театр музыкальной комедии, возглавляемый его учеником, хотя еще в 1946 году Агуров поставил на сцене театра одну из сценических версий «Фраскиты» с Марией Викс в главной роли. Спектакль имел успех, но, видимо, об этом уже никто не помнил.
В коридорах театрального училища, в здании бывшего ТЮЗа на улице Карла Либкнехта, 38, встречаясь с Соколовым и Курочкиным, Агуров вежливо раскланивался, не более. Ни Александр Львович, ни Владимир Акимович ни разу не заглянули в аудиторию, где Агуров проводил большую часть своего времени, пополняя полк «агурчиков» (так нежно называли его учеников).
Было бы наивным представлять отношения Учителя и учеников идиллическими, безоблачными. И у нас было всякое, как, впрочем, и в любых других человеческих отношениях. Кого-то он любил больше, кого-то меньше... Кому-то все прощал, к кому-то был беспощаден... Может быть, в связи с возрастом, он был очень обидчив. Бывало, закрутившись в делах, я не звонил ему месяц-другой... Опомнившись, набирал номер его телефона, но в ответ на мое приветствие Евгений Николаевич молча бросал трубку.
Как-то еще в театральном училище после уроков мастерства актера мы всем курсом собрались пойти на ка-кой-то спектакль или поздний общественный просмотр... Стрелки стремительно мчались к вечернему часу, а Евгений Николаевич, по-моему, и не думал завершать урок. По цепочке, шепотом и записками, однокурсники уполномочили меня отпроситься с занятий. Дождавшись маленькой паузы во вдохновенной речи Мастера, пока он набирал воздух для следующей фразы, я быстро поднял руку и выпалил просьбу всего курса... Никогда не забуду эти страшные минуты — растерянное лицо Учителя, скривившиеся от обиды губы...
— Ах, вам не интересно... — тихо проговорил он. — Пожалуйста, можете идти...
Но идти уже никому никуда не хотелось. Несколькими минутами позже горожане могли наблюдать на многолюдной улице Либкнехта сквозь густую пелену снегопада следующую картину... По тротуару, ссутулившись, медленным широким шагом задумчиво шел огромный старик, а за ним семенил раздетый мальчишка. Слезы на его красном лице смешивались с первыми снежинками. Он что-то беспрестанно говорил этому странному гордому прохожему, но сквозь городской вечерний шум можно было разобрать лишь одно повторяющееся слово: «Простите, простите, простите...» Может быть, после этого мы на всю жизнь затвердили истину: научить нельзя, можно научиться. Все зависит от стремлений самого ученика.
Задолго до окончания училища мы стали работать над дипломным спектаклем «Униженные и оскорбленные». Агуров сам инсценировал роман Ф. М. Достоевского. Впервые он обратился к этому произведению еще в Театре имени Гоголя. Столичная критика тогда высоко оценила и его свежий взгляд на классику, и режиссуру, и исполнение одной из главных ролей — князя Валковского. Но в нашем спектакле Агуров решил пойти дальше. Он переписал инсценировку, иначе трактуя некоторые образы.
Учитель настаивал, чтобы в репетициях мы пользовались не тетрадками с ролью, в которые были выписаны только наши реплики, а полными текстами пьесы. Поскольку я единственный на курсе умел печатать на машинке, я и вызвался распечатать необходимое количество экземпляров. Моя инициатива подружила меня с директорской секретаршей Верой, тайком оставлявшей мне после рабочего дня ключи от приемной, и обернулась утомительными поздними вечерами и бессонными ночами. Машинка не брала в одну закладку больше шести страниц разборчивого текста, поэтому инсценировку мне пришлось перепечатывать не один раз, а потом еще делать и дополнительный тираж из-за того, что пьесы часто терялись моими однокурсниками. Не сразу мне удалось разобрать достаточно сложный почерк Евгения Николаевича. Каждый вечер я стучал по клавишам машинки, пока не слипались глаза, за полночь выходил из училища в кромешную тьму улиц, а иногда загулявшие вахтеры просто забывали обо мне и, уходя, закрывали одного в огромном здании старого ТЮЗа до самого утра. Мне тогда довелось с лихвой познать на практике и изнурительный труд, и терпение, о необходимости которых говорил Евгений Николаевич. Но зато с каким чувством удовлетворения я сидел на первой читке под шуршание свеженьких, хрустящих машинописных страниц. Правда, это ощущение длилось всего несколько минут, пока не стали выползать на свет божий зловеще притаившиеся в ровных строчках текста опечатки... Раззадоренные смешками моих товарищей, опечатки проявлялись все смелее и смелее и наконец обратили на себя внимание Мастера. Вместо реплики «пойдем в ресторацию» в пьесе было напечатано «пойдем в реставрацию». Агуров пристыдил меня за невнимательность, щедро расхохотался, а за ним заржал и весь курс. В тот момент мне захотелось исчезнуть, убежать и от своего Учителя, и от своих товарищей.
Когда мы учились на третьем курсе, Евгений Николаевич в гололедицу упал, получил тяжелую травму: перелом шейки бедра. И это в более чем восьмидесятилетнем возрасте... (Кстати, то же случилось и с Фаиной Георгиевной Раневской в последний год ее жизни.)
Без Евгения Николаевича аудитория наша осиротела. Скрывая грусть, мы приходили к нему в больничную палату и, что удивительно, — там, среди больничных коек, заряжались энергией, оптимизмом и огромной верой нашего Учителя в выздоровление.
Вспоминаются его слова: «В театре, как и в жизни, идет постоянная борьба с трудностями, преодоление их. Если человек не борется, он не живет...» В сложные месяцы болезни он не только не сник, но еще и подготовил несколько глав из романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита». После выздоровления прочел их наизусть перед студентами и педагогами Свердловского театрального учи-лища, а позже сделал запись литературной передачи на телевидении.
Как только Евгений Николаевич переехал из больницы домой, начались репетиции дипломных спектаклей у него на квартире. Встав на костыли, он упорно тренировался, на восемьдесят третьем году жизни заново научился ходить! И какое счастье испытали мы, когда через несколько месяцев после травмы он вошел в аудиторию мастерства актера.
Я в ту пору (не без позволения на то Агурова) уже работал в труппе Свердловского театра юного зрителя, куда меня пригласил мой первый театральный директор Михаил Вячеславович Сафронов. Мне невероятно сложно было совмещать учебу с театром. В училище мне говорили: «Ты еще студент!» и не хотели считаться с репетициями в театре, а в ТЮЗе не хотели мириться с планами нашего курса. И хотя мне удавалось перебегать через Харитоновский парк от театра до училища за рекордные пять минут, я не избежал обвинений Учителя. Делая замечания, он иронически говорил: «Ах, извините, вы ведь уже артист!» А иногда вообще не общался со мной, ведя переговоры через нашего педагога по сценической речи Галину Яношевну Ильину:
— Галина Яношевна, спросите у мастера, они намерены сегодня репетировать?
А однажды на курс пришел ученик Евгения Николаевича из предыдущего выпуска и неосторожно заметил, что я на сцене профессионального театра бессмысленно хлопаю глазами. При всем курсе я был поруган и осмеян Учителем. Мне хватило сил выслушать Евгения Николаевича и пригласить его на свой спектакль. Но, к сожалению, ни тогда, ни после окончания училища Агурову так и не удалось побывать в ТЮЗе.
«СКОНЧАЛСЯ АГУРОВ КРЕМАЦИЯ 9 ВТОРНИК 14 ЧАСОВ...» Телеграмма моего друга и коллеги Александра Викулина, полученная мною 7 декабря 1986 года в Москве на Центральном телеграфе, не удивила меня. За две недели до этого мы простились с Евгением Николаевичем...
В двадцатых числах ноября, накануне вылета в Москву, поздним вечером я ненадолго зашел к Учителю за своими книгами — двухтомником литературного наследия Михаила Чехова, вызвавшим в те годы настоящую сенсацию. Мы делились впечатлениями о книге, но разговор этот был только прикрытием страшной догадки и настоящих чувств... Беседа постоянно прерывалась, мы просто молча смотрели друг на друга. Агуров, о чем-то задумавшись, несколько раз отворачивался, глядя в черноту окна, потом растерянно переспрашивал: «Так ты когда вернешься?..»
— К Новому году! Мы с вами еще и Новый год вместе встретим! — врал я, понимая, что больше никогда не увижу Учителя.
В какой-то момент мне захотелось броситься к нему, обнять: «Прощай, дорогой мой человек!» Но разве всегда мы позволяем проявляться тому, что рвется наружу?
— Мне пора, меня ждут. До встречи... — тихо проговорил я Учителю. Евгений Николаевич отвернулся к окну и не ответил мне.
В подъезде агуровского дома меня ожидала моя приятельница — актриса Любовь Ревякина.
— Люба, Агуров скоро умрет, мы только что простились с ним... — сказал я ей сразу, как только за мной кем-то из домашних была закрыта дверь его квартиры.
В самых разных городах театральной России выходят на сцену в одном спектакле актеры разных поколений, объединенные театральной и человеческой школой Агурова.
Что же касается продолжения династии, то замечательная женщина — популярная актриса Ольга Волкова (однофамилица) родила от Николая Николаевича Волкова-младшего сына Ивана, дважды Волкова, очень похожего и внешне, и по манерам на своих дедушек. Выпускник Российской театральной академии, московский актер Иван Волков привел в дом невестку, свою однокурсницу, популярную актрису российского театра и кино Чулпан Хаматову. Так что в агуровскую «энциклопедию» театральной жизни и двадцать первый век впишет еще не одну строку...
* * *
Подобно тому, как начинаешь скучать по матери, вырвавшись из родительского дома, после окончания театрального училища я остро ощутил отсутствие Учителя, который почти четыре года был рядом... Я стал ходить к нему домой, а уезжая из города, писал ему письма. Агуров отвечал мне, где бы я ни находился: на гастролях или на учебе в ГИТИСе. Отвечал очень подробно, обстоятельно, продолжая давать уроки и жизни, и мастерства...
Из писем Е. Н. Агурова
«...Человек любит себя в искусстве и ищет (иногда и талантливо): как бы себя показать во всем блеске, что бы для этого изобрести пооригинальнее... С моей точки зрения, это не искусство. Или, вернее, искусство беспер-спективное, не дающее ничего ни уму, ни сердцу. А вот когда в спектакле не видишь „искусства”, а живешь проблемами, которые в нем заложены, — вот тут начинается искусство подлинное. Как это у Станиславского? „Искусство ценно, когда оно воздействует не как факт искусства, а как глубокое жизненное потрясение, вызванное средствами искусства”. Кажется, я переврал цитату, но мысль понятна?.. <...>
Смотрел я вчера по телевизору спектакль... <...>. Играют хорошие актеры, а спектакля-то просто нет. Все очень естественно болтают и даже пассивно что-то переживают, но ничего не происходит с ними, все в одном ритме, никаких изменений в поведении (хотя бы внешних!), ни-каких оценок (поэтому я говорю о ритме). А уж о сверхзадачах и говорить нечего. Жизнь надо создавать средствами искусства, а не заниматься копированием естественного (якобы) поведения... „Видите, как простенько мы болтаем!” Бездарный режиссер...»
* * *
«...От бездарных людей ждать в нашем деле смысла — просто пустой номер!.. Помнишь, я рассказывал мой диалог с режиссером <...>? Я: „Простите, но у вас же нет никакого смысла в вашей режиссерской работе!” Он: „Что вы глупости говорите, мне надо спектакль ставить, а не о каком-то смысле думать!” К сожалению, такого рода режиссеров развелось очень много. Их спектакли развращают зрителя! Но есть и другие спектакли, где бьется живая жизнь, спектакли, осуществляемые профессионалами, а актер и режиссер — профессии творческие и там „холодным сапожникам” не место! „Холодный сапожник” — это такой, что работает „тяп-ляп”. Увы, их расплодилось много, слишком много, и мне было бы очень больно, если бы люди, которых я старался приобщить к своему пониманию искусства, свернули бы в сторону и превратились бы в этих „холодных сапожников” <...>»
* * *
«...Если тебя заставляют врать... Ну, что делать, ври, но ври органично, то есть оставайся живым человеком! Это понятно?..»
* * *
«Надо верить в себя и в свою мечту и всячески пытаться ее осуществить... Жить надо перспективой!»
* * *
«Не теряй увлеченности при встрече с подлинным! Береди непосредственность в восприятии во всем и на сцене, и в жизни... Мне показалось, что ты не до конца понял, что „элементы” — это универсальное средство от всех болезней. Разработанный „по элементам” организм обязательно приведет к творчеству, в какой бы форме оно ни проявлялось — гротеск, клоунада, фарс... Тогда увлекательно, когда в основе действие, содержание, мысль! То есть органика, а не фальшь!»
Из книги Сергея Гамова "Перешагнув судьбы экватор".
Это тот самый Евгений Агуров, что озвучивал чудесную сказку "Волшебные башмаки"? Как приятно засыпалось под его уютный, бархатный голос...
Заслуженный артист Азербайджанской ССР (25.05.1936).
В марте-сентябре 1920 — артист Мамоновского театра в Баку, в 1920-1921 — артист и педагог Ряжского театра при клубе имени В.И. Ленина, в 1921-1922 — артист Рязанского советского театра, в 1922-1923 — Московского драматического театра в Сокольниках, в 1923-1924 — Московского театра имени Карла Либкнехта, в 1924-1925 — Сретенского драматического театра, в 1925-1928 — Бакинского Рабочего театра, в 1928-1931 — Смоленского городского театра, в 1931-1932 — артист, режиссер и педагог Ростовского театра драмы, в 1932-1933 — артист и педагог Ашхабадского государственного русского драматического театра, в 1933-1937 — артист и педагог Бакинского Краснознаменного Рабочего театра, в 1937-1940 — артист Горьковского городского театра, в 1940-1944 — артист и режиссер Ростовского театра драмы имени М. Горького (в 1941-1943 — в эвакуации: Махачкала, Коканд, Ковров), в 1944-1950 — артист, режиссер и педагог Свердловского государственного драматического театра, в 1950-1956 — артист Московского драматического театра имени А.С. Пушкина, в 1956-1965 — артист Московского драматического театра имени Н.В. Гоголя. В 1946-1950 — художественный руководитель курса Свердловского театрального института. С 1965 года жил, работал и преподавал в Свердловске.
Это тот самый Евгений Агуров, что озвучивал чудесную сказку "Волшебные башмаки"? Как приятно засыпалось под его уютный, бархатный голос...
Из моей книги "Перешагнув судьбы экватор..." Изд. У-Фактория, 2002 г.
Евгений Агуров,
или
Веков связующая нить...
На вступительных экзаменах в Свердловском театральном училище его кресло стояло в стороне, противоположной столу приемной комиссии. Таким образом, он оказывался за спиной взволнованного и зашоренного абитуриента, не замечавшего Мастера. Издали наблюдая за ходом экзамена, он что-то помечал в своем блокноте и вдруг не-ожиданно обнаруживал себя каким-то заданием или репликой. Потом медленно поднимался, вырастая в огромного благородного старика, подходил к юнцу, мечтающему об актерской профессии, клал на его плечо свою большую изящную руку и начинал беседовать... Волнение, испуг притуплялись.
Это было в августе 1978-го. После зачисления — первая встреча с курсом...
Зная, что нашему учителю вот-вот исполнится восемьдесят, мы никак не могли в это поверить. Высокий, в строгом костюме, бодрой походкой вошел он в аудиторию. В его лице было столько же добродушия, сколько строгости и требовательности. Живой, острый взгляд... Чуть приподнятые в ироничной улыбке уголки рта... Отказавшись от предложенного кресла, он по-молодецки уселся на краешек стола.
Таким мы запомнили Агурова, таким мы часто вспоминаем его, встречаясь с однокурсниками. Таким мы полюбили Евгения Николаевича на всю жизнь, и любовь эта выстояла в мелких конфликтах и обидах, случающихся во всяком учебном процессе. Любовь эта крепнет с каждым годом. Чем взрослее становимся, тем чаще вспоминаем уро-ки Мастера и убеждаемся в его правоте.
О чем говорил он тогда, в первую нашу встречу? О воспитании в себе внутренней потребности неустанно работать над собой — каждый день, каждый час, каждую минуту. Учиться преодолевать трудности, и еще о многом... О том, что проповедовал всю жизнь, обращая в свою веру людей, преданных театру. За время экзаменов мы успели наслушаться о нем множество легенд и уже тогда, в первую встречу с учителем, стали понимать, что судьба подарила нам счастливую возможность общения с уникальным и та-лантливым человеком.
То, о чем могли мы узнать лишь из учебников и исторических книг, хранила память Евгения Николаевича. Биография Агурова — история двадцатого столетия. Вместе со своими товарищами-гимназистами он приветствовал в Тифлисе путешествующего по Кавказу императора Николая Второго. С не меньшим восторгом аплодировал гастролерам — звездам оперной сцены того времени.
Свою раннюю любовь к театру Евгений Николаевич делил между драмой и оперой. В Тифлисе была первоклассная опера с великолепным хором, оркестром, прекрасными дирижерами, сильным балетом, не говоря уже об именитых солистах и репертуаре, достойном их дарования. Все сезоны театр работал на аншлагах.
— Главное удовольствие я испытывал от актеров, от того, как легко преодолевали они самые трудные пассажи, легко брали высокие ноты, — вспоминал Евгений Николаевич. — Словом, поначалу меня больше увлекала техника исполнения, волнение же я испытывал редко.
Но с приездом на гастроли в Тифлис Ф. Шаляпина вкусы юного Агурова стали меняться. Шаляпин произвел на него ошеломляющее впечатление. Сила воздействия его была такова, что из зрителя Агуров стал соучастником происходящего.
— Есть такое выражение — «зашевелились волосы на голове». Это я буквально испытал на себе, когда слушал, как Шаляпин пел «Старого капрала» Даргомыжского, — рассказывал Евгений Николаевич. — Поговаривали, что якобы голос его не был силен, не знаю... Своим голосом он заполнял весь зал. Причем, слушая его, я ощущал, что поет он для меня одного, словно ведет со мной интимный разговор. Пел он без всякого напряжения, поразительно легко, свободно, создавая при этом образы необычайной силы.
Агуров считал, что грамзаписи дают приблизительное представление обо всем великолепии дарования певца. При прослушивании записей своего кумира ему казалось иногда, что певец любуется своим голосом, мастерством, что напрочь отсутствовало при живом исполнении. Евгений Николаевич как-то высказал предположение, что, очевидно, Шаляпин не любил записываться. Ему нужно было общение со зрителем, присутствие которого вдохновляло его на творчество.
Шаляпин заставил Агурова иначе посмотреть на профессию оперного певца. То же самое произошло и в балете. Ему посчастливилось видеть на сцене великолепных танцовщиц и танцовщиков, но если раньше он любовался только техникой исполнения, то, увидев Гельцер в «Корсаре», стал воспринимать танец иначе. Очевидно, техника балерины была настолько совершенной, что не замечалась зрителем. Гельцер жила в танце. Танец для нее становился совершенной формой, через которую выражалось содержание, являясь мыслью, чувством, побуждением создаваемого ею художественного образа.
Это Агуров хорошо понимал уже в зрелом возрасте, когда делился с нами своими воспоминаниями, а в юности, не рассуждая, просто получал подлинное наслаждение от новых впечатлений.
Так формировались его вкусы, зрело решение посвятить себя искусству. Этому выбору способствовали и события 1917 года. Агуров из тех дворянских детей, что после Октябрьской революции и Гражданской войны нашли в театре применение своим изысканным манерам и непролетарскому интеллекту.
В канун одной из годовщин революции, будучи редактором студенческой газеты «Рампа» и готовя праздничный ноябрьский выпуск, я попросил Евгения Николаевича поделиться воспоминаниями об историческом событии, свидетелем которого ему довелось быть (Агуров родился в 1898 году, в октябре 1917 года ему было девятнадцать). Евгений Николаевич молча выслушал меня, а через несколько дней принес маленькую записку следующего содержания:
«К сожалению, я не был свидетелем октябрьских событий — в то время я жил на Кавказе, а в Баку советская власть пришла в 1919 году.
Не сразу я понял и осознал всю масштабность происходящего, а осознав, восхитился гениальностью великого Ленина, мужеством и героизмом пролетариата, благодаря чему Россия из отсталой, полуграмотной страны превратилась в светоч для всего мира. Агуров».
Сейчас я чувствую мудрую иронию Мастера, а тогда записка эта вошла в очень серьезную передовицу.
Творчество театрального артиста сиюминутно, но оно остается в памяти зрителей, в театральных программках, рецензиях, фотографиях. У Евгения Николаевича подобных реликвий было множество, но и они, как оказалось, лишь некоторая часть того, что удалось сохранить, пройдя через все мытарства...
Москва двадцатых... В 1922—1925 годах Евгений Николаевич работает актером в Сокольническом драматиче-ском театре (бывшем «Тиволи»), в Московском театре имени Карла Либкнехта (Ермаковский народный дом), в Сретенском общедоступном драматическом театре (Сретенка, 26), об открытии сезона в котором писалось: «...Труппа значительно пополнена и усилена. Приглашены С. В. Неволина, М. М. Сарнецкая, П. В. Брянский, Е. Н. Агуров».
Помню пожелтевшую от времени вырезку (еще с «ятями») — рецензию на один из спектаклей Бакинского рабочего театра (БРТ): «Актеры, как говорят, были в ударе. Особенно это относится к Снежиной, Раневской, Агу- рову».
Надпись под фотографией молодого Агурова: «Премьера в БРТ. К. Тренев. «Любовь Яровая»... Яровой — Е. Агуров, постановка В. Федорова». (Того самого Федорова, ученика В. Э. Мейерхольда.)
Рецензия на общественно-бытовое обозрение Типота, Гутмана «Спокойно, снимаю»: «...Гротеск, шарж, пародия, трюк, балетный танец, куплет, музыкальный мотив — все это в разных пропорциях сплетается в одно художественное целое, эффект которого несомненен... Хочется особенно выделить Агурова, Раневскую...»
В отзыве на спектакль «Яд» по пьесе А. В. Луначарского газета «Бакинский рабочий» писала: «...Продуманно передал Ферапонта Агуров и определенно тонко дана Полина Раневской...»
Об этой работе Фаина Георгиевна вспоминала с волнением, как о счастливых днях театральной молодости, восторженно говорила о своем партнере. Как-то она сказала: «Все самое прекрасное в работе в провинции у меня связано с Женей Агуровым». Однажды Евгений Николаевич получил трогательную открытку от своей давней партнерши, в которой были такие строчки: «...С памятью у меня всегда было плохо, но хорошо помню, что всегда Вас любила...»
Не знаю, ответил ли тогда Евгений Николаевич Раневской? Не знаю, правильно ли сделал я, попросив ее как-то написать Агурову, не откладывая, и тут же продиктовал его свердловский адрес?
Мне казалось, что Агурову, оставшемуся без дела (наш курс в театральном училище был последним), вынужденному наедине со старостью анализировать свою жизнь, нужна был поддержка более удачливой, на мой взгляд, Ранев-ской... Но Евгений Николаевич, после моего приезда в Свердловск, показал мне эту открытку с иронично-снисходительной улыбкой.
У мастеров, переживших так много, свои отношения и с прежними партнерами, и с жизнью... Как-то, пробравшись за кулисы Театра имени Моссовета в артистическую к Ростиславу Яновичу Плятту и попросив у него автограф, я похвастал, что несколькими часами назад гостил у Раневской. Плятт, не поднимая глаз от обложки журнала — своего портрета — и оставляя на нем слова пожеланий, спокойно спросил: «А что, она еще жива?»
Старые мастера мудры и ироничны...
Агуровых было двое — Николай и Евгений... И оба подались в актеры. Дабы не вводить поклонниц в заблуждение, один из братьев взял псевдоним Волков. С этой фамилией и вошел в историю отечественного театра и кино. Помните Доктора в «Последнем деле комиссара Берлаха» (кстати, озвучивал эту роль Агуров) или Хоттабыча в знаменитой экранизации? Это Николай Николаевич Волков-старший. Его сын Николай Николаевич Волков-младший, племянник Е. Н. Агурова, стал популярным после знаменитых спектаклей А. Эфроса на Малой Бронной и многочисленных ролей в кино.
Основоположники династии в самом начале своей карьеры испытали на себе все новшества молодых и дерзких реформаторов театрального искусства, но обрели себя в преданности школе Станиславского, действенному анализу пьесы («Что я делаю на сцене, чего хочу?!»). Довелось им понаблюдать из-за кулис за легендарными братьями Адельгеймами. В архиве Евгения Николаевича я видел телеграмму — приглашение в Нижегородскую труппу от знаменитейшего антрепренера Собольщикова-Самарина. Агуров считал, что именно ему он обязан своим становлением.
В Нижнем Новгороде Евгений Николаевич встретился с интереснейшим режиссером Ефимом Александровичем Бриллем. Затем их пути пересеклись в Ростове. Брилль стал художественным руководителем театра, Агуров начал пробовать себя в режиссуре.
Ростовская труппа была очень разрозненной, неровной. Бриллю и Агурову пришлось приложить немало усилий, чтобы собрать ее в единое целое.
Евгений Николаевич любил вспоминать один случай. Ведущая актриса ростовской труппы, инженю-драматик, была очень способным человеком — эмоциональная, с прекрасными внешними данными, великолепным голосом. Но на сцене работала раз и навсегда заготовленными приемами. К каждой своей роли она подходила с готовым решением — здесь нужно порадоваться, здесь пострадать. Она все изображала. Ею владела стихия игры. Не разбираясь в происходящем, она играла «вообще». Агуров заставлял ее отказываться от привычных приспособлений, что доставляло актрисе невероятные мучения. Ей было неудобно, трудно, и она возненавидела Агурова. Но как-то в работе над спектаклем «Жди меня» по К. Симонову, мучась над главной ролью, она сказала себе: «Хорошо, я послушаю этого ненавистного мне человека, я постараюсь понять, чего он хочет, чего добивается от меня...» И роль пошла. Спектакль стал удачей и постановщика, и исполнительницы.
Во время войны Е. А. Брилль назначается главным режиссером Свердловского драматического театра. Вслед за ним приехал в Свердловск и Агуров. Евгений Николаевич сразу же вошел в число ведущих исполнителей. Его Иван Грозный в постановке Брилля «Великий государь» по пьесе В. Соловьева, профессор Полежаев — герой одноименного спектакля по пьесе Л. Рахманова, Ульрих из спектакля «Семья Ферелли теряет покой» Л. Хеллман, Каренин из «Анны Карениной» (по Л. Толстому), Лемм из «Дворянского гнезда» (по И. Тургеневу) и многие другие роли, виртуозно сыгранные Агуровым, дали повод и зрителям, и критикам, и коллегам говорить о нем как об очень умном, тонком, интеллигентном актере и человеке.
Поразительно, как много успевал Агуров в Свердловске. Будучи актером, в послевоенный период (1945–1949 годы) он осуществлял от двух до четырех постановок в год. В историю Свердловской драматической сцены вошли многие спектакли Агурова: «Бессмертный» А. Арбузова, «Факир на час» В. Дыховичного, «Молодая гвардия» А. Фадеева, «Последняя жертва» А. Островского, «Все мои сыновья» А. Миллера и многие другие. Причем в «Профессоре Полежаеве», и в «Семье Ферелли...», и в «Анне Карениной», и в «Дворянском гнезде», и в «По-следней жертве» он был един в двух лицах — и постановщик, и исполнитель центральной роли, что редко кому удавалось делать достойно.
Его спектакли отличались четкой действенной линией, точным проникновением в замысел пьесы, и всякий раз — открытием новых граней в исполнителях.
В ту пору в свердловских киосках продавались фотографии ведущих актеров драмы, музкомедии. Несколько лет назад, в одном домашнем архиве я увидел карточку Агурова, сохранившуюся среди других семейных реликвий. А еще помню снимок в фотоальбоме Учителя — он в берете и длинном пальто, курит «беломорину», сидя на скамейке, а рядом — любимая жена Евгения Вячеславовна Иванова и собака Динга.
В зрелом возрасте пути братьев — Агурова и Волкова — на некоторое время разошлись. Николай Николаевич Волков долгое время жил и работал в Одессе, потом переехал в Москву. Подался в столицу и Евгений Николаевич.
Почему не остался в Свердловске? Причин тому, полагаю, было немало. Можно было предположить, что на
его решение повлияло увольнение Брилля. В 1950 году Ефим Александрович решил инсценировать лучший из романов Д. Н. Мамина-Сибиряка «Приваловские миллионы». Москва дала разрешение на постановку. Роль Привалова была поручена Борису Ильину. На просмотр спектакля приезжали столичные литературоведы, изучавшие творчество уральского писателя, положительно отозвались они и о пьесе, и о самом спектакле. Премьера состоялась осенью 1950 года, успех был огромным, спектакль даже выдвинули на соискание Государственной премии. Летом 1951 года театр выехал на гастроли в Москву. По-сле «Приваловских...» в «Правде» вскоре вышла статья Н. Абалкина «Об одном неудачном спектакле», в которой указывалось, что Брилль не понял высказывание Ленина о творчестве Мамина-Сибиряка и спектакль получился «...безыдейным, вульгарно-социологическим, глубоко чуждым нашему театру...».
По возвращении в Свердловск Е. А. Брилль получил выговор и был освобожден от занимаемой должности.
Но Агуров, пожалуй, уже был далек от этих событий.
Очевидно, он уехал еще в 1950 году, после закрытия недолго просуществовавшего Уральского государственного театрального института. Агуров вместе с Евгенией Вячеславовной преподавали мастерство актера сначала в студии при театре, а затем и в институте. Ректором института был В. Прокофьев — известный театровед, исследователь наследия Станиславского. По каким-то причинам впав в немилость властей, он был «сослан» на Урал, организовал институт, которым сам впоследствии и руководил, а когда у него появилась возможность вернуться в Москву, доказал властям нецелесообразность существования театрального вуза в Свердловске. Если бы не это событие, Агуров бы не уехал. На втором году обучения он бы не бросил учеников на произвол судьбы. Да и многие студенты, среди которых были Валерий Сивач, Владимир Чермянинов, Семен Уральский, Арнольд Курбатов и многие другие, в будущем известные актеры, неохотно пере-водились в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кино.
Следует принять во внимание и то, что в 1947 году Агуров снимался на Свердловской киностудии в фильме Ивана Правова «Алмазы». Его партнером был известный актер театра и кино, режиссер, педагог Василий Ванин. Судя по всему, они нашли общий язык. Евгений Николаевич понравился Ванину. Когда Василий Васильевич возглавил в Москве Театр имени Пушкина, Агуров написал ему письмо (видимо, все-таки под впечатлением закрытия института) и был приглашен в труппу театра. Но скорая смерть Ванина (его не стало весной 1951 года) оставила нереализованными многие творческие замыслы. Агуров перешел в Театр имени Гоголя (в ту пору он назывался Театром транспорта), снимался в кино. Особо памятной для него была работа с А. Эфросом, пригласившим Евгения Николаевича на одну из центральных ролей — Бартошевича в свой фильм «Високосный год». Но, очевидно, самыми плодотворными стали годы работы на Всесоюзном радио. Агуров всегда испытывал азарт в работе над словом, фразой, положенными на действие, и радио давало творцу возможность насладиться этим пиршеством. На Всесоюзном радио он подружился с Н. Литвиновым, вместе с корифеями — С. Бирман, М. Бабановой, Н. Мордвиновым и другими осуществил несколько радиопостановок, вошедших в золотой фонд отечественного радио.
Один из спектаклей — «Крошка Доррит» с Баба-новой и Агуровым — до слез волновал меня в детстве. Я еще не знал ни названия инсценировки, ни фамилий ис-полнителей, но пронзительный голос из радиоприемника, заполнявший темную квартиру, звал в неведомое, отзывался в моей груди: «Могу я выйти за ворота?.. Я задыхаюсь без воздуха, мне нечем дышать...»
Эту пронзительную интонацию я буду помнить до по-следних дней: «Эмми! Эмми! Я ничего не вижу!..»
Ах, превратности судьбы! На первом курсе театрального училища, когда мы отмечали восьмидесятилетие Учителя, на юбилейном вечере Агурова в Доме работников искусств на улице Пушкина был воспроизведен фрагмент записи этого спектакля, и я чуть не свалился в обморок от неожиданности: голос из моего детства принадлежал Евгению Николаевичу!
Агуров был очень увлеченным педагогом. Когда племянник Евгения Николаевича Николай Волков учился в Театральном училище имени Щукина, то нередко со своими однокурсниками, среди которых был и совсем юный Андрей Миронов, приходил к дядьке заниматься этюдами — самым сложным этапом в дисциплине «Мастерство актера». Агуров тогда вел студию при Московском клубе МВД. А самые первые его ученики уже становились именитыми служителями театра. Кстати, еще в послевоенном Свердловске у него учились А. Соколов, долгие годы возглавлявший Свердловский драматический театр, известный режиссер музыкального театра В. Курочкин, кинорежиссер В. Мотыль и многие-многие другие...
Евгений Николаевич очень дорожил большой цветной фотографией — кадром из фильма «Белое солнце пустыни». Она стояла за стеклом книжного шкафа в его комнате. Сухов склонился над головой Саида, по горло зарытого в песок, а на фоне голубого пустынного неба — слова благодарности дорогому Учителю от режиссера популярной киноленты. Выцветающие от солнца чернила не раз подправлялись аккуратной рукой Евгения Николаевича.
А вот отношения Агурова и с Соколовым, и с Курочкиным для многих остались загадкой. В начале семидесятых, после мучительной смерти жены Евгении Вячеславовны, Агуров решил вернуться из столицы в Свердловск, к приемной дочери Кире. Съехавшись в одной большой квартире с дочерью, внуком, невесткой, правнуками, он, конечно, был счастливым дедом и прадедом, но разве стоила что-нибудь его жизнь без творчества!
Наверное, Евгений Николаевич мог бы поставить не один спектакль в Театре драмы. Вероятно, он ждал предложения. Но оно, судя по всему, не последовало. Проигнорировал возвращение Агурова и Театр музыкальной комедии, возглавляемый его учеником, хотя еще в 1946 году Агуров поставил на сцене театра одну из сценических версий «Фраскиты» с Марией Викс в главной роли. Спектакль имел успех, но, видимо, об этом уже никто не помнил.
В коридорах театрального училища, в здании бывшего ТЮЗа на улице Карла Либкнехта, 38, встречаясь с Соколовым и Курочкиным, Агуров вежливо раскланивался, не более. Ни Александр Львович, ни Владимир Акимович ни разу не заглянули в аудиторию, где Агуров проводил большую часть своего времени, пополняя полк «агурчиков» (так нежно называли его учеников).
Было бы наивным представлять отношения Учителя и учеников идиллическими, безоблачными. И у нас было всякое, как, впрочем, и в любых других человеческих отношениях. Кого-то он любил больше, кого-то меньше... Кому-то все прощал, к кому-то был беспощаден... Может быть, в связи с возрастом, он был очень обидчив. Бывало, закрутившись в делах, я не звонил ему месяц-другой... Опомнившись, набирал номер его телефона, но в ответ на мое приветствие Евгений Николаевич молча бросал трубку.
Как-то еще в театральном училище после уроков мастерства актера мы всем курсом собрались пойти на ка-кой-то спектакль или поздний общественный просмотр... Стрелки стремительно мчались к вечернему часу, а Евгений Николаевич, по-моему, и не думал завершать урок. По цепочке, шепотом и записками, однокурсники уполномочили меня отпроситься с занятий. Дождавшись маленькой паузы во вдохновенной речи Мастера, пока он набирал воздух для следующей фразы, я быстро поднял руку и выпалил просьбу всего курса... Никогда не забуду эти страшные минуты — растерянное лицо Учителя, скривившиеся от обиды губы...
— Ах, вам не интересно... — тихо проговорил он. — Пожалуйста, можете идти...
Но идти уже никому никуда не хотелось. Несколькими минутами позже горожане могли наблюдать на многолюдной улице Либкнехта сквозь густую пелену снегопада следующую картину... По тротуару, ссутулившись, медленным широким шагом задумчиво шел огромный старик, а за ним семенил раздетый мальчишка. Слезы на его красном лице смешивались с первыми снежинками. Он что-то беспрестанно говорил этому странному гордому прохожему, но сквозь городской вечерний шум можно было разобрать лишь одно повторяющееся слово: «Простите, простите, простите...» Может быть, после этого мы на всю жизнь затвердили истину: научить нельзя, можно научиться. Все зависит от стремлений самого ученика.
Задолго до окончания училища мы стали работать над дипломным спектаклем «Униженные и оскорбленные». Агуров сам инсценировал роман Ф. М. Достоевского. Впервые он обратился к этому произведению еще в Театре имени Гоголя. Столичная критика тогда высоко оценила и его свежий взгляд на классику, и режиссуру, и исполнение одной из главных ролей — князя Валковского. Но в нашем спектакле Агуров решил пойти дальше. Он переписал инсценировку, иначе трактуя некоторые образы.
Учитель настаивал, чтобы в репетициях мы пользовались не тетрадками с ролью, в которые были выписаны только наши реплики, а полными текстами пьесы. Поскольку я единственный на курсе умел печатать на машинке, я и вызвался распечатать необходимое количество экземпляров. Моя инициатива подружила меня с директорской секретаршей Верой, тайком оставлявшей мне после рабочего дня ключи от приемной, и обернулась утомительными поздними вечерами и бессонными ночами. Машинка не брала в одну закладку больше шести страниц разборчивого текста, поэтому инсценировку мне пришлось перепечатывать не один раз, а потом еще делать и дополнительный тираж из-за того, что пьесы часто терялись моими однокурсниками. Не сразу мне удалось разобрать достаточно сложный почерк Евгения Николаевича. Каждый вечер я стучал по клавишам машинки, пока не слипались глаза, за полночь выходил из училища в кромешную тьму улиц, а иногда загулявшие вахтеры просто забывали обо мне и, уходя, закрывали одного в огромном здании старого ТЮЗа до самого утра. Мне тогда довелось с лихвой познать на практике и изнурительный труд, и терпение, о необходимости которых говорил Евгений Николаевич. Но зато с каким чувством удовлетворения я сидел на первой читке под шуршание свеженьких, хрустящих машинописных страниц. Правда, это ощущение длилось всего несколько минут, пока не стали выползать на свет божий зловеще притаившиеся в ровных строчках текста опечатки... Раззадоренные смешками моих товарищей, опечатки проявлялись все смелее и смелее и наконец обратили на себя внимание Мастера. Вместо реплики «пойдем в ресторацию» в пьесе было напечатано «пойдем в реставрацию». Агуров пристыдил меня за невнимательность, щедро расхохотался, а за ним заржал и весь курс. В тот момент мне захотелось исчезнуть, убежать и от своего Учителя, и от своих товарищей.
Когда мы учились на третьем курсе, Евгений Николаевич в гололедицу упал, получил тяжелую травму: перелом шейки бедра. И это в более чем восьмидесятилетнем возрасте... (Кстати, то же случилось и с Фаиной Георгиевной Раневской в последний год ее жизни.)
Без Евгения Николаевича аудитория наша осиротела. Скрывая грусть, мы приходили к нему в больничную палату и, что удивительно, — там, среди больничных коек, заряжались энергией, оптимизмом и огромной верой нашего Учителя в выздоровление.
Вспоминаются его слова: «В театре, как и в жизни, идет постоянная борьба с трудностями, преодоление их. Если человек не борется, он не живет...» В сложные месяцы болезни он не только не сник, но еще и подготовил несколько глав из романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита». После выздоровления прочел их наизусть перед студентами и педагогами Свердловского театрального учи-лища, а позже сделал запись литературной передачи на телевидении.
Как только Евгений Николаевич переехал из больницы домой, начались репетиции дипломных спектаклей у него на квартире. Встав на костыли, он упорно тренировался, на восемьдесят третьем году жизни заново научился ходить! И какое счастье испытали мы, когда через несколько месяцев после травмы он вошел в аудиторию мастерства актера.
Я в ту пору (не без позволения на то Агурова) уже работал в труппе Свердловского театра юного зрителя, куда меня пригласил мой первый театральный директор Михаил Вячеславович Сафронов. Мне невероятно сложно было совмещать учебу с театром. В училище мне говорили: «Ты еще студент!» и не хотели считаться с репетициями в театре, а в ТЮЗе не хотели мириться с планами нашего курса. И хотя мне удавалось перебегать через Харитоновский парк от театра до училища за рекордные пять минут, я не избежал обвинений Учителя. Делая замечания, он иронически говорил: «Ах, извините, вы ведь уже артист!» А иногда вообще не общался со мной, ведя переговоры через нашего педагога по сценической речи Галину Яношевну Ильину:
— Галина Яношевна, спросите у мастера, они намерены сегодня репетировать?
А однажды на курс пришел ученик Евгения Николаевича из предыдущего выпуска и неосторожно заметил, что я на сцене профессионального театра бессмысленно хлопаю глазами. При всем курсе я был поруган и осмеян Учителем. Мне хватило сил выслушать Евгения Николаевича и пригласить его на свой спектакль. Но, к сожалению, ни тогда, ни после окончания училища Агурову так и не удалось побывать в ТЮЗе.
«СКОНЧАЛСЯ АГУРОВ КРЕМАЦИЯ 9 ВТОРНИК 14 ЧАСОВ...» Телеграмма моего друга и коллеги Александра Викулина, полученная мною 7 декабря 1986 года в Москве на Центральном телеграфе, не удивила меня. За две недели до этого мы простились с Евгением Николаевичем...
В двадцатых числах ноября, накануне вылета в Москву, поздним вечером я ненадолго зашел к Учителю за своими книгами — двухтомником литературного наследия Михаила Чехова, вызвавшим в те годы настоящую сенсацию. Мы делились впечатлениями о книге, но разговор этот был только прикрытием страшной догадки и настоящих чувств... Беседа постоянно прерывалась, мы просто молча смотрели друг на друга. Агуров, о чем-то задумавшись, несколько раз отворачивался, глядя в черноту окна, потом растерянно переспрашивал: «Так ты когда вернешься?..»
— К Новому году! Мы с вами еще и Новый год вместе встретим! — врал я, понимая, что больше никогда не увижу Учителя.
В какой-то момент мне захотелось броситься к нему, обнять: «Прощай, дорогой мой человек!» Но разве всегда мы позволяем проявляться тому, что рвется наружу?
— Мне пора, меня ждут. До встречи... — тихо проговорил я Учителю. Евгений Николаевич отвернулся к окну и не ответил мне.
В подъезде агуровского дома меня ожидала моя приятельница — актриса Любовь Ревякина.
— Люба, Агуров скоро умрет, мы только что простились с ним... — сказал я ей сразу, как только за мной кем-то из домашних была закрыта дверь его квартиры.
В самых разных городах театральной России выходят на сцену в одном спектакле актеры разных поколений, объединенные театральной и человеческой школой Агурова.
Что же касается продолжения династии, то замечательная женщина — популярная актриса Ольга Волкова (однофамилица) родила от Николая Николаевича Волкова-младшего сына Ивана, дважды Волкова, очень похожего и внешне, и по манерам на своих дедушек. Выпускник Российской театральной академии, московский актер Иван Волков привел в дом невестку, свою однокурсницу, популярную актрису российского театра и кино Чулпан Хаматову. Так что в агуровскую «энциклопедию» театральной жизни и двадцать первый век впишет еще не одну строку...
* * *
Подобно тому, как начинаешь скучать по матери, вырвавшись из родительского дома, после окончания театрального училища я остро ощутил отсутствие Учителя, который почти четыре года был рядом... Я стал ходить к нему домой, а уезжая из города, писал ему письма. Агуров отвечал мне, где бы я ни находился: на гастролях или на учебе в ГИТИСе. Отвечал очень подробно, обстоятельно, продолжая давать уроки и жизни, и мастерства...
Из писем Е. Н. Агурова
«...Человек любит себя в искусстве и ищет (иногда и талантливо): как бы себя показать во всем блеске, что бы для этого изобрести пооригинальнее... С моей точки зрения, это не искусство. Или, вернее, искусство беспер-спективное, не дающее ничего ни уму, ни сердцу. А вот когда в спектакле не видишь „искусства”, а живешь проблемами, которые в нем заложены, — вот тут начинается искусство подлинное. Как это у Станиславского? „Искусство ценно, когда оно воздействует не как факт искусства, а как глубокое жизненное потрясение, вызванное средствами искусства”. Кажется, я переврал цитату, но мысль понятна?.. <...>
Смотрел я вчера по телевизору спектакль... <...>. Играют хорошие актеры, а спектакля-то просто нет. Все очень естественно болтают и даже пассивно что-то переживают, но ничего не происходит с ними, все в одном ритме, никаких изменений в поведении (хотя бы внешних!), ни-каких оценок (поэтому я говорю о ритме). А уж о сверхзадачах и говорить нечего. Жизнь надо создавать средствами искусства, а не заниматься копированием естественного (якобы) поведения... „Видите, как простенько мы болтаем!” Бездарный режиссер...»
* * *
«...От бездарных людей ждать в нашем деле смысла — просто пустой номер!.. Помнишь, я рассказывал мой диалог с режиссером <...>? Я: „Простите, но у вас же нет никакого смысла в вашей режиссерской работе!” Он: „Что вы глупости говорите, мне надо спектакль ставить, а не о каком-то смысле думать!” К сожалению, такого рода режиссеров развелось очень много. Их спектакли развращают зрителя! Но есть и другие спектакли, где бьется живая жизнь, спектакли, осуществляемые профессионалами, а актер и режиссер — профессии творческие и там „холодным сапожникам” не место! „Холодный сапожник” — это такой, что работает „тяп-ляп”. Увы, их расплодилось много, слишком много, и мне было бы очень больно, если бы люди, которых я старался приобщить к своему пониманию искусства, свернули бы в сторону и превратились бы в этих „холодных сапожников” <...>»
* * *
«...Если тебя заставляют врать... Ну, что делать, ври, но ври органично, то есть оставайся живым человеком! Это понятно?..»
* * *
«Надо верить в себя и в свою мечту и всячески пытаться ее осуществить... Жить надо перспективой!»
* * *
«Не теряй увлеченности при встрече с подлинным! Береди непосредственность в восприятии во всем и на сцене, и в жизни... Мне показалось, что ты не до конца понял, что „элементы” — это универсальное средство от всех болезней. Разработанный „по элементам” организм обязательно приведет к творчеству, в какой бы форме оно ни проявлялось — гротеск, клоунада, фарс... Тогда увлекательно, когда в основе действие, содержание, мысль! То есть органика, а не фальшь!»
Из книги Сергея Гамова "Перешагнув судьбы экватор".