Отец
Мой родной отец Никомаров Наум Давидович был драматическим артистом и очень хорошим. Когда они познакомились с моей мамой, он был директором и артистом ТРАМа в Свердловске. ТРАМы — театры рабочей молодежи — в те годы были целым движением, объединяющим множество молодых людей, не имеющих профессионального образования, хотя приходили в эти театры и артисты уже с опытом, как и мой отец. Вообще же из этих театров вышло в большую жизнь немало известных впоследствии исполнителей.
Отец был старше мамы на двадцать лет, и, видимо, уже при знакомстве произвел на восемнадцатилетнюю артистку балета оперетты сильное впечатление. Кстати, такое впечатление на женщин он производил всегда. Думаю, главный секрет тут был именно в театральном искусстве. По крайней мере, уже в поздние годы встречаясь с театралами, видевшими его на сцене, я, как правило, слышала оценки очень высокие.
Роли он играл самые разноплановые: лукавого Труффальдино в “Слуге двух господ” и зловещего Вожака в “Оптимистической трагедии”, монаха Лоренцо в “Ромео и Джульетте” и капитана Сафонова в “Русских людях” Симонова... Вот такой был диапазон!
При этом был далеко не красавец: с большим лбом с высокими залысинами, крупным носом… Но явно это был тот случай, когда притягивало обаяние талантливой личности, а не внешние данные.
Уже став взрослым человеком, сама многое пережив и осознав, я поняла, что именно отец был большой и единственной любовью в жизни мамы. Но, увы, он-то как раз и не был создан для спокойной семейной жизни, и в Куйбышеве, где отец в ту пору был ведущим артистом в театре драмы, они расстались окончательно. Мама уехала со мной к бабушке в Свердловск, и стала работать балериной в театре музыкальной комедии до своего ухода со сцены.
Мама была человеком очень гордым, и алименты от отца никогда не брала, хотя жили мы по тем временам очень скромно. Из разговоров взрослых я знала о передвижениях отца по театрам России. Долгое время он работал в Ташкенте, в русском театре; именно оттуда его пригласили в Москву, в театр на Малой Бронной, где тогда начинал работать главным режиссером Андрей Гончаров.
Именно в это время мы с отцом по-настоящему и познакомились. Я училась тогда в 10 классе, и на зимние каникулы собралась в Москву (благо, тогда это не было особой проблемой и для школьницы из семьи с невеликими достатками). Маме я стала не говорить, что решила повидаться с отцом, хотя она, конечно, обо всем догадывалась. Она по-житейски была человеком необычайно мудрым и на меня никогда не давила, а потому отнеслась к моему решению спокойно.
И через столько лет я практически зримо помню всю ту поездку... Я пришла в театр на Малой Бронной на рядовой детский спектакль. От волнения у меня буквально подгибались колени. Я купила в кассе билет; шла пьеса, которую сейчас никто и не вспомнит: “Грач — птица весенняя”, о большевике Николае Баумане... Отец играл там какого-то священника, даже архимандрита. У него был сложный грим, большая окладистая борода... К тому времени, он был уже народным артистом.
В антракте, умирая от страха и смущения, я отправилась за кулисы. Нашла гримерку отца. Зашла, поздоровалась.
— Вы меня не узнаете?
Отец посмотрел на перепуганную девчушку, улыбнулся — он явно принял меня за очередную поклонницу.
— Вы знаете, — сказал он спокойно, — что-то очень знакомое, но вот кто, не узнаю?!
Вот такая водевильная ситуация!
С тех пор мы с отцом общались уже постоянно. Когда после окончания университета я училась в Москве в ГИТИСе, приезжая на экзаменационные сессии, всегда останавливалась у отца.
Жил он с соседями в большой квартире в здании на Кутузовском проспекте, что за гостиницей “Украина”; тогда он уже был женат на очень симпатичной женщине — Лидией Михайловной Петровой, тоже актрисе. Надо сказать, что в целом это была довольно обычная квартира. Каждую из комнат занимал артист, приглашенный в Москву из провинции, занимавший у себя на родине положение творческого лидера и уже достаточно известный.
Похожая судьба и у Гертруды Двойниковой. Она приехала в Москву из Горького, ныне Нижнего Новгорода. Яркая, драматическая актриса, эффектная женщина, в Москве она играла эпизоды в кино, не очень значительные роли в театре, и только.
Так получилось, в общем, и у отца. Истинных причин его ухода из театра я так никогда и не узнала. Он тосковал по любимому делу, и это ощущалось совершенно отчетливо — чувствовалось, что творчески он ещё многое смог бы сделать. Жили они с Лидией Михайловной небогато — пенсии были небольшие, накоплений не было — и все время мечтали, что в один прекрасный день что-то произойдет, и все изменится: например, примут инсценировку на радио, которую отец сочинял, и заплатят гонорар… Но почему-то волшебного дня все не наступало, и ничего не происходило, всё срывалось и рассыпалось.
Время антреприз тогда еще не пришло, и актер — даже и хороший — если уже “выпадал из обоймы”, то навсегда. Наверно поэтому отец принял приглашение на работу в драматический театр города с таинственным названием Арзамас-16. Сколько их было тогда по России — закрытых и перезакрытых городов...
Отец обрадовался, даже сразу как бы помолодел: в перспективе был не просто хороший заработок, но и самое главное для него — возвращение на сцену. Он уехал, а за ним и Лидия Михайловна. Проработали они там меньше года. Рак сразил их одного за другим. Бог его знает, что это был за рак. О радиации в тех самых “арзамасах” тогда можно было говорить только шепотом.
Вот так трагически оборвалась эта яркая театральная жизнь.
Алла Лапина


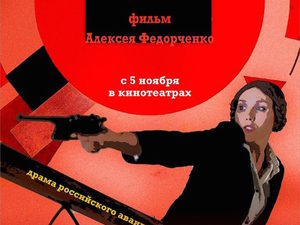






обсуждение >>