Грибов никогда не мечтал об актерской профессии, обстоятельства жизни к «высоким мечтаньям» не располагали - Алексей с 14 лет начал работать на фабрике. Но он вспоминал, что увлекал его театр всегда: «Меня всегда манило это волшебство – театр, цирк, балаган на Масленицу».
После революции Грибов попал в Школу-студию рабочей молодежи и там, в драматическом кружке под руководством В. Барановского, решил стать актером. После нескольких неудачных попыток он поступил в Третью студию МХАТ. Актер вспоминал: «Первое, что я увидел - был спектакль “На дне”. Я не помню сейчас своих ощущений, кроме одного – после этого спектакля я ходил как помешанный. Я был ошеломлен той жизнью, которую создавали на сцене Станиславский и Немирович-Данченко и весь ансамбль актеров».
Несмотря на то, что с первой же роли в спектакле «Битва жизни» Грибов был ободрен самим Станиславским, увидевшим в нем «талантливого комика», который вполне мог бы «отважиться на драматическую роль», путь артиста к ролям, принесшим ему всенародное признание, был долгим. Первые 10 лет работы в театре он был занят только в эпизодах, а в кино в эти годы его работать еще не приглашали. По словам самого Грибова, выстоять в эти годы ему помогли «беззаветная преданность театру» и «уверенность в том, что и в самой маленькой роли актер должен быть художником».
Владлен Давыдов вспоминает: «Алексей Николаевич Грибов - для меня во всяком случае - был самым правдивым, самым мхатовским артистом. В том смысле, что все то, чему нас учили в студии и что проповедовали Станиславский и Немирович-Данченко, Грибов воплощал в себе. В нем была мужественная простота. Немирович-Данченко говорил – не переживай, а скажи просто; не играй чувства, не изображай... И вот Грибов был на сто процентов мхатовский актер».
Вячеслав Невинный: «Доверие к Грибову было совершенное. Иногда бывает так, что в театре артисты делают замечания, на которые можно не обращать внимания. Иногда коллеги глупости говорят. Но Алексей Николаевич обладал таким природным даром видения и педагогики, что ему можно было доверять».
В 1930-х годах сбылась и мечта актера о работе в кино. Языком киноэнциклопедии его роли можно было бы описать так: «способность к типизации образа без утраты для героя интересного личностного начала – одна из наиболее ярких сторон актерского дарования Грибова». Сын актера, Алексей Грибов-младший, рассказывает: «Как часто говорят про актера: он знает народ, он знает людей, жизнь… Про отца я не могу сказать, что он знал народ – он был этот народ. Может быть, поэтому в каких-то вещах ему и было просто на сцене».
Вячеслав Невинный: «Никогда не видел, что он (Грибов – прим. ред.) что-то делает одинаково, затверженно. По технологии мы-то видели, что рисунок роли – один, что он не может из него выйти. Но… Я как сейчас вижу его глаза с каким-то хулиганским выражением, которого не должно быть по роли, какой-то озорной кураж, почти клоунски-цирковой».
«Я любил его в эпизодах, - вспоминает Владлен Давыдов, - потому что каждый из них был снайперским попаданием в образ. И юмор был у него такой своеобразный, скрытный и иронический».
К сожалению, по-настоящему интересных ролей в кино у Грибова было не много, хотя умение воплотить серьезный драматический характер актер продемонстрировал еще в экранизации пьесы Островского «Без вины виноватые». Но настоящий успех на экране принесли Грибову комедийно-сатирические персонажи. Ученик Станиславского был особенно убедителен, скрываясь за характерностью – таковы все его чеховские персонажи.
Кира Головко упоминает удивительные физические данные Грибова: «У него было по-актерски развитое тело – так сейчас Костя Райкин со своими актерами работает. Алексей Николаевич мог все: мог встать на голову, ходить на руках, мог сесть на шпагат… Он бог знает что выделывал под грандиозный восторг публики и наш, конечно».
Грибов-младший рассказывает, что Алексею Николаевичу было присуще желание пробовать себя в самых разных областях: «Как-то отец пришел домой насупленный, напряженный. - Пап, что такое, что случилось? - Я не могу выйти из образа, сказал он мне. Для него было абсолютно не характерно говорить в быту такие слова, как образ. Я, чувствуя подвох, спросил, какого. - Я в мультфильме озвучивал жука, - ответил он мне...
Уже под старость Алексей Николаевич сыграл роль о которой мечтал – Фому Опискина в "Селе Степанчикове и его обитателях". Кажется, он этой роль поставил точку в споре начатом с кем-то из великих – то ли со Станиславским, то ли с Немировичем-Данченко, на тему комик ли он или не комик. В образе Опискина сложилось все вместе. Комическое – безусловно, драматическое – конечно. Местами – трагическое, как и сама жизнь».
(По материалам актерской энциклопедии «Кино России». Выпуск 1, М., 2002 и телевизионной программы «Алексей Грибов. Великолепная простота»).
Он принес в МХАТ кровное знание разнообразного и пестрого быта средних слоев: дед его был машинистом на железной дороге, двоюродные деды оставались крестьянами, тетки учительствовали в подмосковном поселке Ивантеевке; отец был шофером и служил долгое время у своей однофамилицы, жены миллионера Ольги Грибовой, с самоубийством которой связано самоубийство знаменитого пайщика-мецената МХТ, Николая Тарасова.
Образование Грибова ограничилось начальным городским училищем в Леонтьевском переулке; работал на шелкоткацкой фабрике, которую национализировали и закрыли после Октября; пробовал учиться на бухгалтера, в 1919 г. попал в школу-клуб рабочей молодежи. Здесь его настигла тогдашняя общая зараженность театром: вошел в Студию им. Горького, где ставили инсценированные рассказы (сыграл эпизод в рассказе С. Гусева-Оренбургского «Страна отцов», 1923), экзаменовался во Вторую студию, в МХАТ, наконец, попал в школу Третьей студии.
В 1924 г. вместе с другими учениками Н. М. Горчакова перешел в МХАТ (дебютировал ролью Крэгса в перенесенном сюда школьном спектакле «Битва жизни» по Диккенсу). Несколько лет оставаясь во вспомогательном составе (Михайло Головин, «Царь Федор Иоаннович», 1925; Сидоренко, «Горячее сердце», 1926; парень в «Растратчиках» и пономарь в «Елизавете Петровне», 1928, и др.), он был заметен и в этих маленьких эпизодах.
Коренастый, широколицый, с характерной развальцей, контрастной его скороговорке, он не довольствовался тем, что легко казался «типичным». У Грибова были свои отношения с натурой — прекрасно зная черты персонажей «по жизни», он их не копировал, а сгущал и суммировал; прокрашивал ярким и едким юмором. Он получал время от времени роли в водевиле и в комедии: играл Васю в «Квадратуре круга» (1928), состязаясь с исполнителем роли в первом составе водевиля, очаровательным Яншиным. Играл Гошу в бодром «Чудесном сплаве» (1934); но вряд ли дар его был даром прирожденного комика. Одной из лучших его ранних работ стал мужик из «Бронепоезда 14-69», вваливавшийся с тем, что задание Вершинина не выполнено, все погибли, он один уцелел; мужик был растерянно рад тому, что уцелел, и не успевал испугаться, когда Вершинин его убивал на месте.
Грибов был мастером разнообразнейших вариантов русского национального характера — от буяна и озорника Хлынова («Горячее сердце» Островского, 1938) до немногословно-героической роли Глобы в «Русских людях» Симонова, от всепонимающего, тертого жизнью и терпеливого Луки («На дне», 1948) до жаждущего романтики дуролома Епиходова («Вишневый сад», 1944), от извитого, умнейшего Достигаева («Егор Булычев» и «Достигаев и другие») до сонного, косолапого и тоже по-своему умного Собакевича («Мертвые души», 1934). В Фирсе («Вишневый сад», 1958) и в Малюте («Трудные годы», 1946) Грибов давал два варианта готовности служить до конца, два варианта рабского спокойствия. Он с равной физической самоотдачей и острым пониманием играл Киселя — то ли юродивого, то ли наглого бродягу, лишенного всех корней спутника анархистов в «Блокаде» (1929), или деревенского старика в «Воскресении» (1930), с его стойким недоверием к любому новшеству, с его неподвижной упрямой волей — переждать все каверзы, которые он подозревал в предложениях барина. Он играл людей, хамски свободных от любых вопросов и хамски довольных своими удачами, как богатеющий при театре Мигаев («Таланты и поклонники». 1933). И он же создал цикл ролей русских правдоискателей в их политизированных двадцатым веком вариантах — Левшин («Враги», 1935), Фрол Баев («Земля Вирты», 1937).
Воспитав свой талант на эпизодах, фигуры он брал хватко, плотно и толковал исчерпывающе, позволяя угадать биографию и не нуждаясь в развертывании. Эта сознательная сжатость живого образа, конденсированность темперамента и ударность его посылов были использованы в работе МХАТ над «Кремлевскими курантами» (1942; роль Ленина Грибов, уступив ее в возобновлении 1956 года Б. А. Смирнову, вернул себе в 1966-м; играл Ленина также в спектакле «Цветы живые», 1961). Самой сложной по внутреннему рисунку, самой неоднозначной и самой глубокой из ролей Грибова осталась роль Чебутыкина («Три сестры»), которую он играл до конца дней.
Клеймом мастера и богатством его палитры отмечены позднейшие работы Грибова — 1-й мужик («Плоды просвещения», 1951); Непряхин («Золотая карета», 1957), Шмага («Без вины виноватые». 1963); гимназический сторож Федор («Дни Турбиных», 1968); Фома Опискин («Село Степанчиково», 1970); Райнер («Соло для часов с боем», 1973).
И. Соловьева
Поздним октябрьским вечером 1910 года Николая Грибова неожиданно вызвали в дом хозяйки, его однофамилицы – миллионщица, красавица, влиятельная в московских купеческих кругах Ольга Грибова, выстрелив в сердце, пыталась свести счеты со своей путаной жизнью. Прислуга вызвала врача и шофера.
Спустя полчаса Грибов доставил истекавшую кровью женщину в приемной покой. Осознав содеянное, она умоляла врачей спасти ее, обещала им половину своего огромного состояния. Только молила она напрасно...
В череде самоубийств, потрясших Москву в октябре 1910-го года, это было вторым. Днем раньше ушел из жизни некто Николай Журавлев – друг мужа Ольги. С ним Грибову связывали отношения, смысл которых современники и очевидцы разъяснить так и не смогли. Спустя сутки застрелился еще один миллионер, страстно влюбленный в роковую красавицу, – Николай Тарасов, пайщик Художественного театра, близкий знакомый Немировича-Данченко. В день его смерти в театре отменили спектакль – случай небывалый по тем временам. Тарасов жил в доме, в котором снимал комнаты Николай Грибов.
А семья – сплошь самородки
Обсуждению этих кровавых «декадентских» событий было посвящено немало вечеров в семействе одного из лучших шоферов Москвы. То, что у богатых своих причуды и что они тоже плачут, для маленького Алеши Грибова стало ясно очень рано. Он рано повзрослел и, когда много лет спустя к нему, уже прославленному актеру, приставали с расспросами о том времени, отделывался фразой: «В детстве у меня не было детства».
Воспоминания о матери сводились к теплому ангельскому свечению в самом начале жизни: она умерла от туберкулеза, когда Алеше было четыре года. Потом появилась мачеха с апельсином в руке. Первое, что запомнилось, – апельсин, он тогда попробовал его впервые.
Шоферской зарплаты отца хватало на жизнь, но не более. Семья вскоре стала расти, появились сводные братья и сестры.
Одно из ранних воспоминаний – небывалый разлив Москвы-реки в апреле 1908 года, когда затопило больше ста улиц и около двух с половиной тысяч домов. В том числе и подвал дома, где жили Грибовы. Вода стояла очень высоко, и пасхальные дни семья провела на крыше, под открытым небом.
А семья Алеши была довольно примечательной, сплошь самородки. Дед Алексея по отцовской линии после отмены крепостного права ушел из Лотошинской волости в Москву. Устроился на Московско-Казанскую железную дорогу, освоил профессию машиниста. До конца дней Михаил Ефимович помогал своим многочисленным братьям-оболтусам, оставшимся на печи в деревне, и не слишком сетовал, что те в основном пропивают пересылаемые им деньги: считали, что Михаил гребет их лопатой. Русские паровозы дед водил почти полвека, пока не случилась авария – паром ему обожгло глаза, он почти ослеп и вынужден был оставить работу. А потеряв вскоре жену, стал много молиться, ходил по монастырям, иногда забирая с собой Алешу. Говорил о скором конце света, но, не дождавшись его, мирно ушел из жизни, оставив внуку икону Николая Угодника. Эту икону Алексей Грибов возил с собой на все гастроли, но никогда не обсуждал свою веру – или неверие – с кем бы то ни было.
Скорее всего, именно дед устроил отца Алеши в шоферы – тот сразу начал возить председателя правления Московско-Казанской железной дороги Н.К. фон Мекка, сына Надежды Филаретовны, друга Петра Ильича Чайковского. Фон Мекк, много сделавший для железнодорожного транспорта России, лично знал машиниста Михаила Грибова.
Свою редкую по тем временам профессию Николай Михайлович чудесным образом соединял с любовью к выпивке. Вспыльчивый, самолюбивый, он подолгу не задерживался у одних хозяев. Служил у коммерсанта Карла Ласмана на Большой Дмитровке, потом у Ольги Грибовой, после ее самоубийства стал водить «мерседес» барона Ф. Кнопа. Вместе с управляющим хозяина участвовал в пробеге Москва – Париж в 1913 году. В Швейцарии машина, управляемая напарником Грибова, перевернулась, и тот со сломанными ребрами остался в швейцарской клинике. Не пострадавший Николай Михайлович, без знания языка бодро пересекая границы, продолжил путь по Европе и благополучно вернулся домой.
Роль для конторщика
Братья Кноп были монополистами хлопчатобумажного производства в России. Обрусели, получили дворянство. Их капитал составлял около 25 миллионов рублей. «Что ни церковь – то поп, что ни фабрика, то Кноп», – говорили в то время. У старшего Кнопа был особняк в Колпачном переулке, а летом импозантный барон выезжал в подмосковное имение на реке Сетунь и брал своего шофера. А тот – свою семью. Неподалеку, в Давыдкове, в летнем саду устраивались гуляния с танцами. Из Москвы приезжали актеры, выступали на открытой сцене. Там Алеша и увидел впервые спектакль – «Дети Ванюшина». И не раз по вечерам сбегал из дома – делал вид, что заснул, а когда все в доме успокаивалось, вылезал в окно и – в сад.
Повезло будущему артисту и с тетушками. Алешу они обожали, дарили на праздники билеты в настоящий театр. Так он попал в Большой – на «Снегурочку». Правда, вышел конфуз: во время спектакля разболелся живот, пришлось уйти. Он долго переживал, что не увидел, как растаяла Снегурочка.
В 1910 году Алексей пошел в школу. Событие, в общем, не слишком примечательное, если не сказать, что располагалась школа в Леонтьевском переулке, почти напротив служебного входа в нынешнее новое здание МХАТа. Прославленный артист Грибов выходил из своего театра после спектакля и видел свою школу, в которую ходил в начале века...
Когда началась война, Первая мировая, отца призвали на фронт, а сын вынужден был начать зарабатывать: получил место конторщика на шелкоткацкой фабрике. Работал по двенадцать часов в день. Жил в огромном общежитии, мест на пятьсот. Интересно, что на фабрике этой несколькими годами позже работала будущий министр культуры СССР Фурцева. Возможно, этим обстоятельством объяснялось то, что Екатерина Алексеевна всегда с подчеркнутым пиететом относилась к Грибову.
В пятнадцать лет Алексей оказался в школе рабочей молодежи на Ордынке. Сказать, что в то время он уже твердо знал, что актерство его судьба, вряд ли справедливо. Но именно в этой школе он встретил человека, во многом определившего его путь.
Вячеслав Валерьянович Барановский, блестящий юрист, организовал одну из лучших в то время частных школ, в которой учились юные печатники и граверы Сытинской типографии. Помимо прочего, в школе преподавали основы театра, ставили спектакли. Однажды во время занятий, прочитав ребятам пьесу Островского «Бедность не порок», Барановский сказал, что если найдется исполнитель главной роли, то можно попробовать поставить. Грибов неожиданно для себя поднял руку и попросил почитать текст. Спустя полтора часа Барановский сообщил, что центральный исполнитель есть, можно начинать работу.
Барановский занимался с Алешей по особой программе, часто приглашал к себе домой, оставлял ночевать. Жена Барановского с нежностью и заботой относилась к лучшему ученику мужа. В училище Вячеслав Валерьянович специально для Алексея придумал смешную должность «запасного руководителя», а вскоре забрал его с фабрики.
Их отношения разладились, когда Грибов объявил, что поступил в Вахтанговскую студию. Он рассчитывал на ответную радость, но вышло иначе. Выяснилось, что учитель мечтал о другом поприще для своего любимца. Он хотел определить его в Институт красной профессуры.
В «доме Станиславского»
Пройдет пара лет, и на главной сцене МХАТа 27 сентября 1925 года состоится дебют Алексея Грибова: ввод в спектакль «Царь Федор Иоаннович» на роль боярина Головина. До этого он уже успел заслужить положительный отзыв самого Станиславского за роль Крэгса. В зрительном зале сидел Барановский. После спектакля состоялось примирение, Грибов стал вновь часто бывать в его доме.
А в «доме Станиславского» в течение многих лет Грибова использовали лишь на подхвате: массовка, эпизоды, вводы. Но если вспомнить состав тогдашнего МХАТа, то станет ясно, отчего никто не бунтовал. Впрочем, почти никто. Однажды случилось невиданное. Получив роль третьим или четвертым составом, а заодно и наказ от Станиславского сидеть на всех репетициях, молодой Грибов заявил Константину Сергеевичу, что присутствовать на репетициях не намерен, так как играть эту роль все равно ему не дадут. Сказал он сущую правду, но... Все в ужасе замерли. Ждали, что к вечеру вывесят приказ об увольнении молодого строптивца.
– Оставьте его в покое. Это просто мальчишество, – великодушно решил Константин Сергеевич.
Лишь в середине 30-х годов Грибов, что называется, «заиграл»: Достигаев, Левшин, Фрол Баев – эти роли вывели его из тени вечного дублерства.
Нет, он явно не принадлежал к актерам, которые просыпались знаменитыми, как Качалов после Берендея или – в другую эпоху – Смоктуновский после князя Мышкина. Постепенно поднимаясь в театральной иерархии мастерства и положения с одной ступени на другую (и не пропустив ни одной), Грибов получил право на персональный успех. И был он тем более громок и ценен, что состоялся в таком знаменитом спектакле, как возобновленные чеховские «Три сестры» с их уникальным составом: Николай Хмелев, Борис Ливанов, Василий Качалов, Алла Тарасова, Ангелина Степанова, Екатерина Еланская...
Правда, новое, второе поколение мхатовцев отнеслось к этой постановке без всякого пиетета. Многие были недовольны распределением. Еланская, получившая роль Ольги, швырнула ее Немировичу-Данченко: «Это играйте сами!» Грибов сидел на первых репетициях с иронической гримасой на лице...
Прошел год. Он играл Чебутыкина по десять раз в месяц. Он выносил, выстрадал эту роль... И никому не приходило в голову, что знаменитого чеховского старика-врача играет 35-летний актер. О нем тогда заговорили, как об одном из самых интересных артистов его поколения.
Интересных и сложных. «Очень люблю Грибова как артиста, – писал Станиславский. – Как человека... не знаю...»
Резкий, не лезущий за словом в карман, после Чебутыкина он играл много и ярко. А Яшу в «Вишневом саде» так, что однажды получил записку из зала: «Как же я вас ненавижу...»
Впрочем, самое красноречивое свидетельство признания – вскоре он начал репетировать роль Ленина в «Кремлевских курантах». Это при живых-то Хмелеве, Качалове, Топоркове и других небожителях.
Роль Вождя искорежила не одну актерскую биографию. Негласно считалось, что после Ильича персонажи отрицательного толка актеру заказаны. Учитывая, что в то время едва ли не в каждом театре был свой Ильич из числа первых артистов, можно представить... Грибов стал едва ли не единственным, кого Вождь не сломал профессионально. Наверное, это был очень нетрадиционный Ленин – резкий, насмешливый, гневный и вздорный. В поисках грима Грибов сбрил остатки волос на своей ранней лысине, дабы не надевать сковывавший его парик. Премьеру «Кремлевских курантов» отложила война. Как отложила она и звание народного артиста, присвоенное Грибову вскоре после премьеры.
А в самом начале войны Алексей Николаевич встретил жену Барановского – Елену Владимировну. Сам Барановский давно умер, «тетя Леля» осталась совсем одна, почти без средств к существованию.
Трудно сказать, что это было такое... В общем, вышло так, что Грибов женился на ней. Полумать, полужена, она была намного, намного старше его. В сущности, он ее спасал: «мама Леля» смогла получать продуктовую карточку, положенную актеру за работу во фронтовых бригадах.
Не забывал он ее и тогда, когда вскоре после войны встретил Изольду Федоровну Апинь. Она училась в студии МХАТа на режиссерско-постановочном факультете. В 1947 году у них родился сын Алексей, чей день рождения отметили неожиданно шумно и всенародно...
Алексей Грибов. Дело в том, что я родился в день 800-летия Москвы – под салют и концерты. Отец уже сыграл Ленина, получил народного СССР, а мы продолжали жить в коммуналке на Тверском бульваре с окнами на Леонтьевский переулок. Шмага, которого отец играл, говорил: «Не надо благодетельствовать артиста». Отец так и жил: ни у кого ничего не просил. Он не просил, ему и не давали. Позднее он начал строить этот мхатовский кооператив на Тверской-Ямской. Помню, как мы впервые пришли в эту квартиру и отец сказал мне: «Давай, выбирай свою комнату». Вселились мы сюда чуть ли не в день смерти Сталина.
Отца на сцене я впервые увидел лет в пять. Мама повела меня на «Три сестры». Все, что я увидел, мне ужасно не понравилось, ужасно! Наверное, надо было посмотреть что-то более героическое. А тут ходят какие-то люди в пиджаках, что-то такое говорят... В общем, я никогда не был дитя кулис. И, честно сказать, этот мир никогда не был близким. Наверное, потому, что я рано понял, что в этой профессии можно быть только выдающимся. Средним – это обречь себя на постоянное унижение и зависимость. А быть плохим актером с фамилией Грибов – это уже трагедия.
Отец никогда и не склонял меня к какому-либо решению. Его педагогика была опосредованной: он со мной много разговаривал. Спрашивал, например, что я думаю о Луке в «На дне» или о том же Чебутыкине – счастливый он человек или нет? Как лучший период общения с отцом вспоминаю Щелыково – актерский дом отдыха, бывшее имение Островского. Отец очень любил это место. В первый приезд нас поселили в избе, я увидел, как живут простые люди.
Никаких особых увлечений, никаких хобби у отца не было. Театр забирал его целиком. Он любил машину, но не до самозабвения. Любил разбирать шахматные партии. А в молодости они с Яншиным увлекались бегами и даже, как рассказывала мама, проигрывали серьезные суммы. Дружил он и с Кторовым. Отец был суров в оценках коллег, но о Кторове говорил неизменно в превосходных выражениях. Помню, как Анатолий Петрович ходил с тростью по Тверской: элегантно и невероятно органично. А вот отец совершенно сливался с толпой. На улице его почти не узнавали, никто не оборачивался, не бросался с просьбами об автографе, и отца это вполне устраивало. Он редко пользовался своей популярностью, только когда нужно было просить за кого-то. Умел и отказывать. Вообще он мог быть достаточно жестким, нетерпимым. Наверное, и это сказалось в их разрыве с мамой.
Я не могу сказать, в какой момент отец ушел из семьи, – это происходило без меня. Но все было сложно, запутанно... Начать с того, что когда отец был уже фактически женат на маме, он формально еще не был разведен с первой женой – Еленой Владимировной Барановской.
...Мне кажется, я понимаю, почему они расстались. Мама была достаточно сложным человеком, с очень высокими критериями, самостоятельной, образованной, жесткой. Им было трудно вместе: два мощных характера, не прощавших друг другу обид. Вообще два творческих человека в одной семье – это всегда не просто. Мама, так же как и отец, всегда много работала. Во МХАТе в то время помреж – это творческий человек, полноценный участник творческого процесса.
Не облегчало жизни и то, что у отца время от времени случались запои – порой очень тяжелые. Это наследственное. Он мог долго вообще не пить, а потом вдруг срывался на несколько дней. Один из таких запоев начался во время съемок «Гуттаперчевого мальчика», где отец играл клоуна Эдвардса. Он не пришел на съемку. За ним выслали машину с ассистентом режиссера. Приехала красивая молодая женщина... И тут начинаются легенды. Рассказывали и даже писали, что портрет этой женщины, запечатленной в «Огоньке» в качестве лучшей пионервожатой, стоял у отца на полке. Возможно, конечно, но все это не очень на отца похоже – слишком романтично. Она смогла привезти отца на студию, отпоить чаем... Он начал сниматься. «Хотите, я подарю вам трезвость», – будто бы сказал он ей. И потом действительно четыре года не брал в рот спиртного. Вскоре они поженились. Отец продолжал приходить к нам домой, обедал, гулял со мной. С его новой женой я почти не был знаком. Да и взаимной потребности не было.
Неуправляемый любимец Фурцевой
Про сложный характер Грибова говорили многие. Это правда. Но правда и то, что он, способный отхлестать словом партийного начальника, никогда не обижал заведомо слабого. Он мог не пригласить на свой юбилей министра культуры, заявив, что не желает, чтобы про него говорили, будто он дружит с министрами. На худсовете мог в присутствии сановного автора назвать дерьмом пьесу, но никогда – обругать гримершу или осветителя.
Начальство во всех его видах и формах он органически не терпел. Увенчанный всеми наградами и званиями, даже не особо лавируя, последовательно уходил от всевозможных «некрасивостей»: спокойно, даже не сочтя нужным что-либо объяснять ответственным товарищам, отказался поставить подпись под очередным пасквилем на Солженицына.
Он тяжело переживал периоды мхатовского безвременья. Но когда Екатерина Алексеевна Фурцева ему, чуть ли не первому, предложила возглавить МХАТ, ответил, что актер должен заниматься своим прямым делом. Не случайно он был так виртуозно органичен в роли Шмаги с его «наше место в буфете...».
Фурцева обожала его, несмотря на все закидоны. Не случайно именно Грибову – первому в Москве и второму в стране после Николая Симонова – дали звезду Героя Социалистического Труда. Она знала – Грибов трудяга, Грибов держал репертуар во все времена.
В середине 60-х он играл так много, что однажды произошел характерный казус. Народным артистам полагалась некая норма спектаклей в месяц (кажется, десять), все сверх – оплачивалось дополнительно. Если меньше – не имело значения. Однажды Грибова вынуждены были снять с крохотной роли в «Днях Турбиных», где он играл эпизод: сторожа в ставке гетмана. Спектакль шел часто, и у актера выходило до 23 спектаклей месяц. Внезапно явилась какая-то фининспекция, подсчитала, прослезилась и вознегодовала: Грибову причиталась какая-то несусветная по тем временам сумма. Решили не выплачивать, а просто и тихо сняли с роли. Дешевле.
Он и в кино часто соглашался на небольшие роли, если считал, что может сделать живого человека. В фильме «Поезд идет на Восток» он сыграл роль машиниста, для чего выучился водить локомотив – не раз вспомнив своего упорного деда.
Одна из ролей едва не стоила ему жизни. В картине «Смелые люди» он играл тренера-наездника Воронова. Согласился на эту роль еще и потому, что в молодости вместе с Яншиным и Кудрявцевым занимался выездкой лошадей, участвовал в забегах, а однажды даже выиграл приз имени Книппер-Чеховой. В фильме его персонаж мчался по извилистой дороге в горах. Грибов решил сделать все сам, без дублера. На первом же дубле управляемую им пролетку занесло, и она стала утягивать его вместе с лошадью в ущелье. Спасли его тогда страховавшие солдаты-кантемировцы.
Впрочем, кино оставалось для него подспорьем, вспомогательной музой. Главное – театр.
Его отношения с Олегом Ефремовым были более чем натянутыми. Но когда тот приступил к выпуску спектакля «Соло для часов с боем», где в уникальном актерском ансамбле сошлись Яншин, Прудкин, Андровская и Станицын, он забыл все претензии и репетировал с «полной выкладкой» – как всегда. К слову, спектаклю этому сильно не повезло на телевидении. Когда была снята большая часть материала, случилось дикое: Брежнев куда-то уезжал или кого-то принимал, и вот впопыхах все это сняли на пленке с «Соло...». Пришлось с муками переснимать.
Смерть уточняет жизнь…
Когда-то Станиславский сказал Грибову, что он – прежде всего комедийный артист. По сути, всю жизнь он доказывал себе, что это только часть правды. Он мечтал о короле Лире, Федоре Карамазове, Эзопе. Не случилось. Отсюда же и другая, главная – на всю жизнь – мечта: Фома Опискин, в котором соединились бы все грани его таланта. Он его и сыграл в конце жизни.
Оттуда же, из тех же корней, и его Чебутыкин, которого он играл на протяжении почти сорока лет. В этой роли сошлись актерская и человеческая драмы Алексея Грибова.
Это случилось в Ленинграде, во время гастролей, куда он приехал один, без супруги. Уже выйдя из поезда, он почувствовал себя плохо. Отлежался в гостиничном номере, вечером пошел на «Три сестры». Состояние было плохое, совсем скверное. Надо сказать, Алексей Николаевич никогда особо не болел. Крепкий, спортивный, он лишь безостановочно курил. Когда приходил к сыну на Новослободскую, в течение получаса заполнял объемистую пепельницу толстыми окурками «Беломора». Во время последней перед его болезнью встречи неожиданно сказал Алексею, что у него плохие предчувствия. Услышать такое от Грибова – человека, ненавидевшего любой пафос, было по крайней мере странно.
...Перед выходом на сцену ему стало совсем худо. Рука не попадала в обшлага сюртука, повисла плетью. Почему никто этого не заметил – понять трудно. Дали занавес. Пошли первые реплики. Текст Чебутыкина слышался все глуше и неразборчивее. Он начал приволакивать ногу. Потом опустился на стул. Из зала раздался крик: «Дайте занавес, актеру плохо! Я врач!» Спектакль прервали, но потом Алексей Николаевич вновь вышел на сцену. Доиграл спектакль и уехал в гостиницу. Почему ему тогда не оказали помощь, совершенно непонятно. Если бы занавес дали сразу, последствия мощнейшего инсульта могли предотвратить. Во МХАТе помнили о смерти Добронравова во время спектакля «Царь Федор», когда в кассу был возвращен только один билет; о смерти Хмелева во время прогона того же спектакля.
Драму усугубило то обстоятельство, что помощником режиссера на «Трех сестрах» работала Изольда Федоровна. На нее и посыпались обвинения.
Алексей Грибов: Что случилось, не могу сказать. Маму начали обвинять в страшных вещах. Переживала она ужасно. Но я-то знаю: она была человеком высочайшей ответственности. Если бы ей четко сказали, что надо прекращать спектакль, то она это сразу бы сделала. Мои попытки объяснить эту ситуацию ни к чему не приводили. Есть Бог – он все и рассудит. Ни мамы, ни отца нет в живых. Не мне судить, что там произошло...
В Москве Грибову стало немного лучше. Восстановилась речь, он начал ходить, хотя и не слишком уверенно. В твердой памяти, в твердом сознании он даже приступил к занятиям со студентами МХАТа.
Смерть уточняет жизнь. Не терпевший пафосных жестов, Алексей Николаевич Грибов, казалось, и смерть-то свою жанрово снизил: смотрел по телевизору какой-то фильм, смачно обругал его и... ушел из жизни.
Дмитрий ЩЕГЛОВ
С Лениным намучился
«Старейший гриб в лесу дремучем МХАТа,
Качалов, близясь к дням заката,
Со старостью мирится, ибо
В семье грибов растет Алеша Грибов».
ПОРТРЕТ с такой надписью подарил Василий Иванович Качалов своему младшему коллеге и партнеру по спектаклям «Вишневый сад», «Блокада», «Враги», «Воскресение». Качалов, очень любивший Грибова, часто, как это бывает между прославленным мастером и учеником, гонял юношу за водкой. Алексей Грибов был не единственным мхатовцем с «грибной фамилией». Вместе с ним в 1924 году из Третьей студии Художественного театра в труппу МХТ приняли и Владимира Грибкова. В «Плодах просвещения» их имена в программке стояли рядом: «Второй мужик — А. Грибов, Третий мужик — В. Грибков». Жили они в одной коммунальной квартире. Только Грибков не снимался в кино и народу менее известен. Роль Второго мужика, хоть и маленькая, считалась одной из лучших в послужном списке Грибова. Невысокий, коренастый, широколицый — настоящий народный тип — Грибов при распределении обычно получал роли купцов, мужиков, слуг. Красавцем не был и героев-любовников не играл. Играл большей частью мелких неудачников, людей с несложившейся жизнью: Епиходова («Вишневый сад») и доктора Чебутыкина («Три сестры»), актера Шмагу («Без вины виноватые»), мрачного мизантропа Собакевича («Мертвые души»), нервического плута Землянику и бездельника Осипа («Ревизор»). Однако были у Алексея Николаевича и другие герои — сильные личности, манипуляторы, вершители судеб: Малюта Скуратов, Фома Опискин, Ленин. Малюта — это преданность царю Ивану и такое же полное одиночество. Фома Опискин — гигантское властолюбие с его инструментами — хитростью и демагогией. А вот Ленин: его так лаконично не определить. С этим героем Грибов намучился.
Несчастье — мать добродетели
СПЕКТАКЛЬ «Кремлевские куранты» вышел в 1942 году, роли вождя придавалось стратегическое значение. Грибов не вылезал из Музея Ленина, встречался с людьми, которые знали вождя, прочитал все, что смог найти про электрификацию и план ГОЭЛРО. После целого года репетиций Грибов почувствовал, что зашел в тупик и большего сделать не может. Работавший с актерами режиссер Л. М. Леонидов тоже нервничал: он никак не мог представить себе спектакль в целом — только отдельные картины. Руководителем постановки был Владимир Иванович Немирович-Данченко, и Грибов обратился к нему с просьбой посмотреть его работу и что-то подсказать. Немирович похвалил артиста и сказал, что недостает одного: гениальности, «молниеносной ленинской мысли». Но как это сыграть?
Работа над «Курантами» продолжалась еще год, вплоть до начала войны. Часть мхатовских ветеранов, в том числе Тарханов и Книппер-Чехова, репетировавших в этом спектакле, уехали с Немировичем в Тбилиси. Пришлось менять исполнителей. Леонидов, не согласившись с новой концепцией спектакля, отказался от постановки, и завершала ее Мария Осиповна Кнебель. Выпускали спектакль в эвакуации — в Саратове. Грибов испытывал чувство стыда, что он, сорокалетний мужчина, вынужден болтаться в тылу. Но успех спектакля и слова Немировича: «Создать на сцене образ Ленина — это подвиг», — как-то примирили его с самим собой. Считается, что у каждого художника должна быть своя тема. Но актер не выбирает сам роли, он только насыщает их своей индивидуальностью, своим пониманием эпохи. Если попытаться сформулировать грибовскую тему, то — очень общо — она звучит так: русский характер в разных проявлениях, мера ответственности человека перед мiром. «МIР» — как община, общность людей. До реформы 1918 года это слово писали через восьмеричное «I». Именно это значение имел в виду Лев Толстой, называя свой роман «Война и мiр».
Про Грибова так всю жизнь и говорили: народный характер. В зарубежных пьесах не занимали (если не считать сыгранной в молодости «Битвы жизни» Диккенса и последней — «Соло для часов с боем»). Очень долго актера держали на вторых ролях, выпускали в эпизодах. Но и в маленькой роли Грибова замечала публика, хвалили рецензенты. Он мог без единого слова, находясь в глубине сцены, что-то там есть, и публика забывала про главных персонажей и следила за ним. Фрола Баева («Земля» Н. Вирты об Антоновском мятеже), бесстрашного мужика, ищущего правду, он вылепил с такими узнаваемыми подробностями, с таким шарканьем валенками, с такой смекалкой и озорством, что рядом с Н. Хмелевым, исполнявшим главную роль, тут же отмечали и Грибова. Мужик из «Плодов просвещения» тоже сыгран обстоятельно, со вкусом и простотой. Широкоплечий, сутулый, знающий мудреные слова, он пришел к барину «насчет совершения продажи земли движение исделать». Откуда у артиста такая коллекция узнаваемых народных типов?! Да от рождения, от собственной жизни. «Несчастье — мать добродетели», как говаривал Фома Опискин, грибовский персонаж.
«В детстве у меня не было детства»
РОДИЛСЯ Алексей Николаевич в 1902 году в Сокольниках, недалеко от товарной станции Московско-Казанской железной дороги. «В детстве у меня не было детства», — говорил Грибов. Ему шел третий год, а сестре Маше и того меньше, когда мать, работница табачной фабрики, умерла от туберкулеза. Было ей всего двадцать три года. Через некоторое время отец женился, и в доме появилась мачеха. Первый приход мачехи Леша запомнил особенно: она принесла детям по апельсину, которых они никогда не пробовали. С появлением мачехи семья стала расти: к двум детям добавилось еще четверо. Жили скромно, переезжали с места на место. Отец, Николай Грибов, имел редкую по тем временам профессию шофера. Квалификация у него была очень высокая, вместе со своим хозяином он даже участвовал в грандиозном автопробеге 1913 года Москва — Париж. Однако его карьере мешало одно: он был любитель выпить и подолгу на одном месте не задерживался. По утрам Леша помогал отцу: мыл кузов, чистил колеса, которые тогда делались со спицами, как у велосипедов, так что в них застревали комья грязи. Отец платил за это сыну пятиалтынный. Ближе всех Алеше был дед Михаил Ефимович Грибов, перебравшийся после отмены крепостного права из деревни в Москву. Дед работал на железной дороге, самоучкой освоил сложную технику, стал машинистом, сорок лет водил паровозы. Рюмки в рот не брал. Иногда он возил внука с собой. Однажды случилась авария, Михаилу Ефимовичу обожгло паром глаза, и он почти потерял зрение. Работать уже не мог, ему дали небольшую пенсию. Отец и мачеха Алексея были неверующими, а дед — очень набожным. От деда осталась икона Николая Угодника, которую Грибов потом всю жизнь тайком возил во все гастрольные поездки. А еще возил том Достоевского с «Братьями Карамазовыми»: старик Карамазов, Эзоп и король Лир были его несыгранной мечтой.
Как растаяла Снегурочка?
В ОТЦОВОМ доме жили размеренно, скучно, рано ложились спать. А мальчика тянула жизнь со своими развлечениями — масленичными гуляньями в Сокольническом парке, праздничной толпой на Красной площади. Торговками, выкрикивавшими товар: горячие бублики, гречишные оладьи. Балаганы на Девичьем поле. Представления в «народном духе» в Манеже. Один из хозяев отца, барон Федор Кноп, летом выезжал в свое подмосковное имение на реке Сетунь и брал своего шофера с семейством. В километре от дома Кнопов, в Давыдкове, имелся летний сад с открытой сценой. В субботу и воскресенье в саду устраивали танцы, фейерверки. Из Москвы приезжали актеры. Вход в сад стоил пятиалтынный, но деньги — это еще не все. Главное — удрать из дому. Алеша прятал обувь в кустах, а сам делал вид, что ложится спать. Когда все засыпали, вылезал через окно. В этом летнем театре он увидел свой первый спектакль — «Дети Ванюшина». Больше всего его изумило, что среди лета люди ходили в шубах. В те вечера, когда убежать было нельзя, он играл с сестрой Машей в свой театр. Алеше повезло: у него были две тетки (сестры отца), учительницы. На рождественские или пасхальные каникулы они часто дарили ему билеты в театр. На «Снегурочке» в Большом у мальчика вдруг заболел живот. Пришлось уйти в четвертом акте, и он долго переживал, что не видел, как Снегурочка растаяла.
В 1916 году отца призвали на фронт — возить начальство. Четырнадцатилетний Алеша, как старший, вынужден был пойти работать. Ему дали место конторщика в управлении шелкоткацкой фабрики. Он выдавал сырье и получал готовую продукцию. Это был тяжелый физический труд — двенадцать часов в день. Он принимал и взвешивал по двести-триста пудов ткани. Жили рабочие во дворе фабрики в общежитии с огромными помещениями на 600 коек. После революции фабрику национализировали. С фронта вернулся отец, но Алеша не бросил работу. Он решал, к чему себя применить. Рабочий день сократили до восьми часов, появилось свободное время. Один из приятелей посоветовал пойти в школу-клуб рабочей молодежи на Ордынке. С этого момента жизнь Грибова круто изменилась. Днем он работал на фабрике, получая свои двести граммов хлеба пополам с овсом. Вечером — учился. Голодно, холодно, а он съедал свой бутерброд с повидлом и был счастлив. Почему-то в то тяжелое время все повально увлеклись театром, появились самодеятельные коллективы, театры-клубы, «дома игры». В школе Грибов встретил своего учителя, В. В. Барановского. Юрист по специальности, он предпочел педагогику и стал директором одной из лучших школ, где учились молодые рабочие, наборщики, печатники, граверы из Сытинской типографии. Однажды на уроке литературы Барановский прочел ученикам «Бедность не порок» Островского и сказал, что, если найдется исполнитель на главную роль, можно попробовать пьесу поставить. Алеша поднял руку и сказал, что почитает текст. Когда он закончил, Барановский объявил: «Любим Торцов уже есть, будем ставить спектакль». С этой минуты Грибов заболел театром.
Шелкоткацкая фабрика, где он работал, из-за нехватки сырья и топлива закрылась, рабочих перевели на другую, потом ее слили еще с чем-то. В результате образовался комбинат «Красная Роза», на котором в эти же самые годы работала будущий министр культуры СССР Екатерина Алексеевна Фурцева. Однако этим знакомством Грибов никогда не пользовался. Много лет спустя Фурцева с обидой спросила его, почему он не позвал ее на свое семидесятилетие в ресторан «Прага»? «Никогда ни одного министра у меня в гостях не будет, — твердо ответил он. — Я не хочу, чтобы говорили, будто я дружу с министрами». Отказал он ей, и когда она после смерти М. Н. Кедрова предложила Алексею Николаевичу возглавить МХАТ: «Это теперь все всё умеют — писать пьесы, ставить спектакли и даже писать на себя рецензии. Я могу только играть!»
Ученик, учитель и жена учителя
БАРАНОВСКИЙ многое сделал для юного Грибова: ввел в свой дом, занимался с ним по особой программе, готовил к поступлению в вуз, забрал его с фабрики в свою школу на специально придуманную для этого должность «запасного руководителя». Конечно, он и представить не мог, как отблагодарит его Грибов. Эта потрясающая история случилась двадцать лет спустя. В начале войны Алексей Николаевич (с Барановским они давно расстались, поскольку учитель не смог простить ученику уход в профессиональный театр) встретил на улице заплаканную Елену Владимировну, жену Барановского. Муж умер, она осталась одна и не знала, что делать. Елена Владимировна (он смолоду звал ее «тетя Лёля») была намного старше Грибова, ей было 50, но это его не остановило. Он женился на ней, и она смогла получать его продуктовые карточки, положенные ему за работу во фронтовых бригадах. У него были две комнаты в огромной коммуналке, там они и поселились. Он не забывал ее до самой смерти, заботился о ней. Когда заболел и слег, его приемная дочь или шофер приносили ей продукты. Елена Владимировна пережила Грибова.
Отношения с женщинами у Алексея Николаевича были непростые, в них были и романтика, и трагедия. У Грибова был короткий роман с сотрудницей МХАТа, помощником режиссера. Появился сын Алеша. Грибов построил для них кооперативную квартиру, а сам продолжал жить в коммуналке: в одной комнате — он, в другой — Елена Владимировна. Обстановка была старинная: Алексей Николаевич собирал мебель пушкинской эпохи: ломберный столик, диван красного дерева, зеленая настольная лампа с двумя свечами… А рядом со шкафом красного дерева — тазы, в которые капала с потолка вода.
«Я посвящаю вам трезвость»
ГРИБОВ был много занят в репертуаре, играл больше двадцати спектаклей в месяц (при норме в одиннадцать). В свободное время ходил с Яншиным на бега, поигрывал, а однажды в заезде в честь Книппер-Чеховой даже принял участие сам. Был футбольным болельщиком — болел за «Спартак». Выпивал с друзьями, а иногда и один: наследственность. Снимался мало — из-за театра. И вот однажды, когда он в очередной раз не явился на съемки «Гуттаперчевого мальчика», «Мосфильм» послал за ним машину. В дверь позвонила молодая, очаровательная ассистент режиссера Наташа Валандина. Грибов был зол, у него как раз случился запой. Наташа хотела войти в комнату, но он не пускал, пятился спиной к книжному шкафу, словно что-то прикрывая. Оказалось, за стеклом книжного шкафа стоял «Огонек», на обложке — портрет Наташи известного фотографа Бальтерманца. Бальтерманц сфотографировал ее несколько лет назад не только как идеал девушки, но и как лучшую пионервожатую, занявшую первое место на смотре.
Несмотря на то что Грибов ехать на съемки наотрез отказывался, Наташе все же удалось вывести его из дома и посадить в машину. На студии она уложила его на какой-то диванчик, и через несколько часов он уже снимался в роли добрейшего клоуна Эдвардса, единственного настоящего друга «гуттаперчевого» мальчика. А отснявшись, подошел к Наташе и сказал: «Хотите, я посвящу вам трезвость?» Четыре года Алексей Николаевич не брал в рот ни капли. Это давалось с большим трудом, ведь его часто приглашали на правительственные банкеты. Он вообще был в фаворе у «верхов». Героя Соцтруда ему дали первому в Москве, сразу за Симоновым в Ленинграде. Сталинскую премию он получал много раз: за «Плоды просвещения», за «Кремлевские куранты», за «Офицера флота» и «Соло для часов с боем», а еще — за кинофильм «Смелые люди». Но сам к властям не подлизывался, был человеком строгих правил. Как говорил его герой Шмага: «Благодетельствуйте кого угодно, только не артиста!» Когда Грибову позвонили с настоятельной просьбой подписать письмо против Солженицына, он резко отказался. Наталья Иосифовна волновалась: не скажется ли на семье? Но нет, сошло с рук — уж очень он был известен. Когда в Москве побывал Бертольд Брехт, он был очарован игрой Грибова. «В России мне понравились больше всего Грибов и цирк», — сказал он. И написал Алексею Николаевичу письмо, что видит его идеальным исполнителем в своей пьесе «Господин Пунтила и его слуга Матти».
«Дайте занавес!»
МХАТ был самым выездным театром — Япония, Англия, Франция. Грибов ездил во все гастроли и везде имел оглушительный успех. Вроде не самая главная роль в «Вишневом саде» — Фирс, а в каком восторге были французы! Его называли «русским Жаном Габеном». А сам Алексей Николаевич был в восторге от Парижа, дышал его воздухом. Мечта любого русского интеллигента! Писал оттуда домой: «Париж — город Женщины. Все — о Ней, все для Нее!» В Лондоне сыграли «Мертвые души». Нелюдимый, угрюмый Собакевич произвел на англичан сильное впечатление. Наверно, они отождествляли его с русской натурой. После спектаклей Алексей Николаевич гулял по городу, жадно смотрел по сторонам и снимал на кинокамеру, подаренную одним из почитателей его таланта. Потом приходил в гостиничный номер, открывал какую-нибудь банку селедочки и съедал с московским хлебушком. Разница между оценкой труда зрителей и прессы, с одной стороны, и реальной платой за него артистам, с другой, казалась обидной. Отовсюду он писал Наталье Иосифовне самые нежные письма. Она была намного моложе его, красавица и умница, и он боялся ее потерять. А она, по ее словам, «любила его так, как не знала, что можно любить». Как приятно было бы сказать, что они жили долго и счастливо, но в один непрекрасный день произошло несчастье. МХАТ был на гастролях в Ленинграде. На спектакле «Три сестры» кто-то из артистов заметил, что Грибов-Чебутыкин вдруг стал запинаться и волочить ногу. Актеры продолжали играть, как вдруг из зала раздался громкий голос: «У актера инсульт. Я врач. Дайте занавес!» Спектакль прервали, занавес опустили, Грибова уложили. Если бы сразу вызвали «скорую», наверно, его можно было бы спасти от тяжелых последствий инсульта (он потерял речь, не мог ходить). Но… спектакль доиграли до конца. Финальные реплики доктора, сообщающего о дуэли с Соленым, об убийстве Тузенбаха: «Утомился я, замучился, больше не хочу говорить. Впрочем, все равно!» были прощанием Артиста с Театром.
Наталья Иосифовна выхаживала мужа три года. Грибов заново учился писать и говорить, начал ходить с палочкой. Но на сцену больше не вышел.
Светлана НОВИКОВА-ГАНЕЛИНА
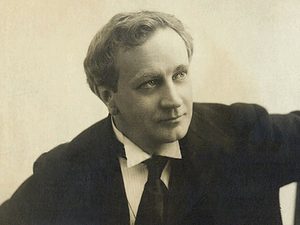

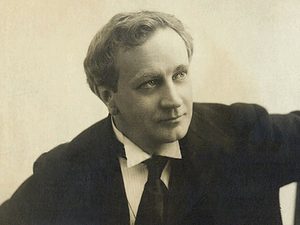











обсуждение >>