Николай, если можно, расскажите немного о себе? И как получилось так, что выпускник журфака и киновед стал режиссером?
- Я так много раз отвечал на этот вопрос, что сейчас думаю: чтобы вам такое рассказать, чтобы это было с одной стороны – правда, а с другой – не пересказывать слово в слово то, что уже говорилось.
Дело в том, что я мечтал о кино с раннего детства. Я еще не умел писать, но уже рисовал раскадровки, придумывал истории, сценарии. В школьном возрасте, по-моему, в 10 лет, я снял первую картину. Выпросил у родителей, и они купили дорогущий по тем временам подарок – кинокамеру. И я снимал свои первые фильмы сначала на 8-миллиметровую пленку, потом, когда пробился в республиканский клуб кинолюбителей, – на 16-миллиметровую пленку, затем начал работать на телевидении.
Сразу после школы поступал во ВГИК на режиссерский факультет, но не поступил. И родители настояли, чтобы я не терял время и пошел на факультет журналистики. В тот момент мне было все равно. У меня не было печатных работ, которые были нужны при поступлении. Но так как в тот момент уже были работы на телевидении, то мне их засчитали. И я принес свои вгиковские письменные работы, которые тогда прошли на «ура».
В процессе поступления есть этап собеседования – тот самый экзамен, который я не прошел во ВГИКе, потому что у меня просто язык к горлу присох. Передо мной сидел настоящий Хуциев! Я от волнения говорить не мог. А тут мне было не то чтобы все равно, но спокойно: поступлю – хорошо, не поступлю – так не поступлю. Сидел весь цвет журналистики: кто-то читал газету, кто-то что-то писал… и меня спрашивают: «Ну, почему вы хотите стать журналистом?». Я говорю: «А я не хочу стать журналистом». И тут – газета выпала из рук, у кого-то упала ручка. И все смотрят на меня. Я объяснил, что поступал и не поступил во ВГИК, но все равно хочу работать в кино. Для того чтобы работать в кино, нужен жизненный опыт и на факультете журналистики я смогу его получить. Работа журналистом даст мне очень интересный материал. Они были ошеломлены и меня приняли.
Самое смешное, что я действительно оказался прав, и журналистика дала мне интересный жизненный материал, знание характеров, ситуаций, опыт. И, например,
«Змеиный источник» был написан вместе с Юлией Семеновой (с которой в свое время мы вместе работали в газете), не то чтобы по следам реальных событий, но по впечатлениям от реальных людей. И эту картину населяют знакомые нам персонажи: с кем-то работали, с кем-то рядом жили.
Одним словом, журналистика была хорошим трамплином, очень хорошей школой.
А когда Вы стали киноведом? Это ведь уже второе образование?
-Да, это тоже была смешная ситуация. Дело в том, что недоучившись на тот момент в МГУ, я стал работать в газете, на телевидении в Молдавии, в Кишиневе. У меня были свои программы, свои рубрики. И помимо статей о молодежи, о культуре (так как газета была молодежная), я стал писать о кино. Мои работы выделялись, и на них сразу обратили внимание, стали награждать. И мне предложили поступать от Молдавии на факультет киноведения во ВГИК, где в те времена имелись специальные "зарезервированные места" для республик. Мне говорят:
"Езжайте, учитесь на киноведа". Я говорю:
"Не хочу быть киноведом". И в Госкино Молдавии меня стали уговаривать. Я долго сопротивлялся, а потом все-таки решил поехать. Лишним не будет. Я подал в молдавскую комиссию, решавшую судьбу "зарезервированных мест", те самые работы, которые награждались и имели шумный успех. И меня - завернули. Тогдашний главный редактор киностудии "Молдова-фильм" сказал мне:
"Знаете, нам нужны национальные кадры, приходите в следующем году, мы будем иметь вас в виду".
Мне было 20 лет. Я был человеком самоуверенным, сказал, что меня иметь не надо. Взял свои работы и по пути со студии "Молдова-фильм" зашел на почту и отправил их во ВГИК. И естественно я прошел творческий конкурс, потому что работы были хорошие.
Раз прошел, решил съездить в Москву. Заодно мне надо было восстановиться в МГУ.
Я восстановился в МГУ, а параллельно во ВГИКе сдал первый экзамен, потом второй. Так и покатилось. И я оказался на факультете киноведения.
Но уже на третьем курсе я начал снимать кино. Это был мистический триллер
«Ночлег. Пятница», поставленный на «Мосфильме» при участии студии им. Горького. Тогда на Мосфильме существовало объединение «Дебют», оно и сейчас существует. Мистический триллер, в котором снималась Нина Дробышева, замечательная актриса из театра им. Моссовета. Сильная актриса, сильный человек. А я тогда был такой…зеленый, неумелый. Я вышел на съемочную площадку и думал, что все должно само по себе складываться.
А как все же случилось, что Вы начали снимать кино?
- Я сам пробился на Мосфильм, стал писать сценарии. И вдруг понял, что существует такая лазейка, можно попытаться получить постановку. Тогда получилась среднеметражная картина. Я познакомился с Юрием Арабовым, который посмотрел мои телевизионные работы и что-то его зацепило. Так как он неосторожно (для самого себя) отнесся ко мне с интересом, я стал заваливать его сценариями. Писал я по сценарию в неделю. Он читал, критиковал, я – нес следующий. И это были серьезные вещи.
Триллеры?
- Это была мистика, экранизация Эдгара По, экранизация Брэдбери, что-то оригинальное было придумано. В итоге был выбран сценарий на основе оригинального сюжета. Арабов понял, что пока меня не запустит, от меня не отделается и нормальной жизни не обретет (смеется). Нашли сценаристку Наташу Чепик, которая на основе этого мистического сюжета выстроила сценарий триллера. И я получил эту постановку.
Недавно мы встречались с Арабовым, и он сказал:
«Я так и не понимаю, как все закрутилось, что ты пришел с киноведения, начал снимать. И как все это выстрелило?!» Я говорю:
«Главное, что не застрелило, Юрий Николаевич».
Замечательный человек, я ему безумно благодарен за доброе отношение ко мне. Когда у меня были годы простоя после первой картины – это был самый мертвый период в кино – я пришел к Арабову в совершеннейшем отчаянии, потому что не мог пробить эту стену, и принес ему сценарий «Змеиного источника». Он сказал: «
Коля, читать не буду, но давай позвоню Валере Тодоровскому, знаю, что на студии им. Горького начинается проект малобюджетного кино, пусть он почитает – вдруг, заинтересуется». Он познакомил меня с Валерой и дальше это все понеслось. Сценарий, который я принес Арабову, был экранизирован и стал моим дебютом в большом кино.
«Змеиный источник» было не так страшно снимать, как первую картину?
- Первую картину вообще было не страшно снимать. Хотя я зацепился за жанр, а Вы имеете в виду профессиональный страх?
Да.
Вы знаете, первую картину и «Змеиный источник» разделяла целая жизнь. Тяжелая жизнь. У меня было много потерь в эти годы: я потерял работу, потерял страну, в которой жил, и вдруг оказался за рубежом. Но в эти годы простоя я писал сценарии. Так были написаны «Змеиный источник», «Поклонник», еще ряд сценариев, часть которых до сих пор лежит и ждет своего часа. Я изучал режиссерскую профессию, я уже знал, что есть моменты, где можно подстелить соломку. По крайней мере, продумать эти вещи.
Тогда же был опыт съемки программы «Улица Сезам». Первый сезон российско-американского проекта. Программа только начиналась, и мне посчастливилось в нее попасть.
После большого фильма с настоящими актерами снимать 2-минутные сюжетики с маленькими детьми воспринималось мною как большой шаг назад в карьере. На самом деле ничего подобного. Это был колоссальный шаг вперед. Мне дали полную свободу, при этом жестко регламентировали, что и как я должен делать. Сценарии утверждали в Америке. В две минуты надо было вместить очень четкое содержание. Снять сюжет надо было за один день. Организовать съемку надо было самому: все продумать, принести реквизит. До этого, занимаясь любительским кино, я делал раскадровки, но это было другое. Здесь я уже знал, что и почему я должен делать, чему они помогут, где от чего-то спасут. Я рассчитывал съемочный день пошагово, по кадрам. Заранее набирал детей, сам искал натурные площадки. Думал, как организовать съемку, чтобы ничего не сорвалось. В смете не предусматривалась плата за работу детей-артистов, но мне хотелось их как-то отблагодарить. Я нашел лазейку в бюджете, договаривался с магазинами и покупал больших шоколадных зайцев. Я был всем: режиссером, автором сценария, администратором, плюс сам делал монтаж. Это была колоссальная школа.
Так получилось, что ко мне хорошо там относились, стали давать работу, по-моему, я снял больше сюжетов, чем другие работавшие на проекте режиссеры, и часть моих роликов ушла в международную библиотеку «Улицы Сезам» - а это означало показ по всему миру. Мне это придало уверенности.
Поэтому когда я вышел на площадку «Змеиного источника», у меня был полностью раскадрован сценарий. Я понимал, что не смогу его снять таким, как я его раскадровал, потому что мне дали всего 25 или 26 съемочных дней. Я понимал, что бюджет минимум в три раза меньше, чем мне необходим, но я должен в него уложиться. Иначе картины не будет. И когда я выходил на площадку, я испытывал не страх, это было ощущение полной мобилизации. То ощущение, которое я испытываю теперь каждый раз на съемочной площадке. Я понимал, что если где-то ты не дожал, не допридумал, где-то себя пожалел, устал, отмахнулся, ты себе этого не простишь никогда. Все это останется на экране, все твои ошибки. Если ты что-то не смог сделать, но хотя бы попытался, себя упрекать потом уже не будешь, ты сделал все, что смог.
И начиная с «Улицы Сезам» я очень тщательно готовлюсь к съемкам, иногда даже чересчур. В последнее время я стал пытаться иначе относиться к съемочному процессу. Не легкомысленно, но разрешать себе не так истово продумывать каждую мелочь. Я стал давать волю фантазии и вдохновению, перестал контролировать себя на каждом шагу и каждом вздохе. Но дебютантам не советую себя вести подобным образом: я ведь уже профессионал, и потому какие-то вещи, труднодоступные для начинающего, делаю «на автопилоте».
Как бы то ни было, страх во время съемок «Змеиного источника» был только один – не успеть, не справиться.
Но Вы успели…
- Я успел. У меня была очень хорошая группа: потрясающий оператор Сергей Астахов. Он – мастер и суперпрофессионал. Наверное, только с Астаховым я мог позволить себе по три часа разводить сцену. При том, что у меня все было продумано, я же был неопытный человек. Мы много репетировали, Астахов – терпеливо ждал. Потом он молниеносно это снимал. И в день мы успевали снимать 3-4, иногда даже 7-8 сцен. Он очень быстро работал, вся его группа быстро работала. Благодаря чему эта картина состоялась.
У меня был очень сильный директор, Царство ему небесное, Иосиф Исаакович Сосланд, с которым мы очень страшно ругались во время съемок, но он умудрился мизерный бюджет просчитать так, что мы в него уложились.
Подбирая актерскую команду, Вы уже знаете, кого и на какие роли пригласите, или Вы проводите долгие просмотры, кастинги?
- Да, конечно.
Я просто заметила, что некоторые актеры появляются у вас в нескольких картинах.
- Кто, например?
Александр Бухаров, Сергей Гармаш, Нина Усатова …
- Если говорить об
Усатовой, например, в последней картине (
Фонограмма страсти – прим. ред.), то прежде, чем к ней обратиться, мы с Натальей Троицкой, ассистенткой по актерам, очень тщательно обсуждали огромное количество актрис, которые могли бы сыграть эту роль. И не то чтобы мы выбирали, кто из них лучше в актерском смысле – они все восхитительны – мы выбирали персонаж. Какой из них лучше впишется в историю, кто сделает ее более странной или многозначной или, наоборот, однозначной. Я не обращался ни к кому из актрис, единственное с Догилевой успел поговорить, да и то случайно. Я не называю никогда фамилии актеров, которые пробовались, но здесь проб не было, мы только думали об этом, потому что мне очень хотелось поработать с Татьяной Догилевой. Но там не сложилось. Вы сами понимаете, что Догилева и Усатова – это совершенно разные актрисы. Их даже сравнивать нельзя. Каждая из них – фантастическая.
Я бы, честно говоря, снял еще пару-тройку вариантов
«Фонограммы страсти», только с разными актрисами. Мне было бы интересно, какая в этой роли получилась Алена Бабенко. Это была бы совершенно другая Регина, но при этом это полностью вписывалось в драматургию. Тогда бы это была «Регина-подружка». Был вариант с прекрасной актрисой Ириной Розановой. Тоже совершенно отличный вариант от Усатовой.
Но Усатова человек подписной. Я позвонил ей, но ничего спрашивать не хотел, поэтому начал издалека:
«Ниночка, а как у вас с планами?». Она:
«Я завтра в Москву приезжаю» - «Да ладно! Давайте увидимся – «Давайте!». Тоже ведь понимает, что я не просто так звоню.
«Раз увидимся, давайте я сценарий передам при встрече» - «Давайте».
Она прочитала сценарий и пришла абсолютно готовая к съемкам, без тени сомнения. Все, снимаем, давайте работать. Пришла ослепительная, с идеями, я ее обожаю. Судьба героини была решена.
То же самое происходило и с Гармашом. На самом деле, открою тайну, эта роль писалась в расчете на индивидуальность Никиты Михалкова. Просто Никита Сергеевич в этот момент заканчивал «Утомленные солнцем – 2», и я даже не обратился к нему, потому что понимал, что это не реально. И даже если при своем графике он согласится сниматься, мы попадем в сложную ситуацию, связанную с нашим графиком.
Так как это был мой продюсерский дебют, я понимал свою особую ответственность за то, что все в производстве должно быть точно. Я всегда об этом пекусь, но здесь был особенный случай. Поэтому я обратился к
Сергею Гармашу, который у меня уже играл одну из главных ролей в «Поклоннике», и это стало втройне интересно: как Гармаш сыграет роль, предназначенную для Михалкова. Когда Михалков смотрел фильм, он (не зная, что роль Геннадия Петровича писалась для него) особенно живо реагировал именно на сцены Гармаша – буквально на каждую реплику. Это было очень интересно наблюдать!
При этом я очень люблю работать с новичками, с новыми лицами в кино. Катя Гусева дебютировала в «Змеином источнике», Маша Порошина – в «Поклоннике». В «Поклоннике» же снялся никому тогда не известный
Костя Хабенский. В «Волкодаве из рода Серых Псов» практически дебютировал в большом кино
Александр Бухаров. Это все были новые имена – а сейчас их знает вся страна.
Когда мы делали «Звезду», то посмотрели порядка пяти тысяч человек. Но там стояла такая задача – нужны были молодые ребята, лет 20-23. На тот момент в этом возрасте фактически не было звезд. Мог бы сыграть главную роль Евгений Миронов? Мог бы. Сережа Безруков мог бы сыграть Мамочкина? Мог бы. Я даже проболтался об этом Безрукову позднее, и он немного обиделся, что ему тогда этого не предложили.
Мне хотелось взять людей, чей возраст бы соответствовал возрасту персонажа. И чтобы их главное качество было – мальчишки. Они действительно так прописаны в книге. И мне надо было, чтобы у них не было актерского шлейфа за плечами. Миронов бы гениально сыграл эту роль. Но у Игоря Петренко, которому в момент съемок было 23 года, как и его персонажу, случилось какое-то абсолютное попадание в своего героя.
Каждый год этот фильм показывают на 9 мая не по одному телеканалу, его любят зрители. В чем успех картины, на Ваш взгляд?
- Для меня успех фильма не в том, что его показывают телеканалы, а в том, что зрители смотрят.
Но ведь была уже одна экранизация, и повесть широко известна. В чем же секрет?
Я не знаю. Я очень люблю повесть, и тот фильм тоже полюбил.. При первом просмотре
«Звезда» Александра Иванова не произвела на меня никакого впечатления – это было накануне первого съемочного дня моей «Звезды». Но закончив съемки, захотел е еще раз посмотреть – и влюбился. Это же мои герои, я их знаю! Говорят текст, который мне знаком. Но при этом они другие. Я не сравниваю эти фильмы. Но я рад, что после выхода нашей картины «Звезда» Иванова словно родилась заново – ее вновь стали показывать по телевидению, выпустили кассеты и ДВД. Таким образом, у фильма началась новая жизнь.
Я не знаю секрета успеха, это всегда загадка. Я знаю, что мы очень искренне снимали картину, каждый день находились, что называется, на краю пропасти. Петренко снимался неутвержденным полкартины. Я снимал картину, будучи неутвержденным режиссером. Мы просто так хотели, чтобы эта картина состоялась, что уже ни о чем не думали, а просто работали.
С другой стороны, я любую картину так снимаю. Всегда очень искренне, всегда с абсолютной самоотдачей. Видимо, что-то такое происходит помимо нас. Может быть, есть такая вещь, как генетическая память. Я никогда не думал, что мне военная тема будет близка. Я никогда не смотрел военные картины, а если смотрел, то меня интересовали человеческие истории, а не тематика. «Летят журавли», «А зори здесь тихие…» – это отзывалось на человеческом уровне, а не на идейно-политическом.
Здесь я убедился, когда мы проводили пробы: приходят двадцатилетние ребята (мне было чуть за тридцать), и их эта тема и эти герои, почему то, начинают волновать до дрожи. Потому что наши предки через это прошли и, наверное, в нас это заложено. Тоска по людям, которые ушли и не вернутся, их нехватка, любовь к ним.
Какой вы режиссер? Требовательный, жесткий или открытый к диалогу?
- Одно другое не исключает. Я требовательный, жесткий, но я внимательно слушаю идеи, предлагаемые актерами и другими членами творческого коллектива. Могу вносить изменения, если они соответствуют задаче. На самом деле, это очень опасная штука – менять что-то на площадке. Особенно менять кардинально. И по чьему-либо капризу я никогда это не сделаю. В этом мой каприз. Как говорил Хичкок: «Добрая идея может стукнуть в голову в любой момент, но уже нет времени, чтобы продумать, как ее реализовать». Но, безусловно, мы с актерами разговариваем, и если что-то непонятно и трудно, я внимательно выслушаю и попытаюсь понять.
Меня очень раздражают ситуации, когда люди предлагают «лишь бы предложить». Это очень отвлекает, я ведь уже все продумал и «лишь бы идеи» мне не нужны, мне интересны идеи улучшающие. Поэтому я стараюсь работать с людьми, которые внимательно слушают, что я говорю. И если они что-то предлагают, то они предлагают не для того, чтобы выпендриться, а для того, чтобы улучшить результат.
У вас был опыт работы на иностранном проекте с иностранной командой на фильме «Изгнанник». Как вы попали в такой проект?
- Продюсером картины был Сергей Ливнев, с которым мы работали еще над «Змеиным источником». Он меня позвал, мне было очень интересно, очень непросто. Это странный опыт, двоякий. Но для меня там больше обретений, чем потерь. Я нашел очень близких друзей, очень подружился с Энн Арчер, которая сыграла главную роль. Мы с ней до сих пор общаемся: переписываемся, если я приезжаю в Лос-Анджелес – обязательно встречаемся. Фактически это она учила меня английскому. Я нашел оператора, с которым работаю с той поры – Ирек Хартович. С ним я потом снимал «Волкодава из рода Серых Псов» и «Фонограмму страсти». Я узнал о том, как работают в других системах. Мне понравились эти системы производства. Мне нравится, как работают американцы, потому что они никогда не ставят под сомнение слова режиссера. Они, получая задание, стремятся максимально хорошо его выполнить. Их не надо заставлять. Если человек чего-то не сделал, то он не сделал не потому, что на него не надавили, не заставили, не крикнули, а потому что это уже реально было не в его силах. Он может быть плохой специалист или хороший, но абсолютно точно не халтурит.
Нашим группам зачастую свойственно обсуждение того, что говорит режиссер. Оно принимает патологический характер для съемочной группы, потому что вместо того, чтобы делать свое дело, люди обсуждают то, что режиссер не знает, чего хочет. И часто им не приходит в голову, что это они не берут на себя труд понять, чего хочет режиссер.
На картине «Звезда» у меня была ситуация, когда большая часть группы, к сожалению, мягко говоря, не поддерживала меня. И чего только не говорили за моей спиной, а иногда и в лицо. Так как я приходил с раскадровками, меня называли режиссером-мультипликатором.
«Что мы снимаем? Крупный план – кому это нужно?» Когда картина была сделана, некоторые походили ко мне и извинялись. Но это уже было потом.
В американских группах я с этим не сталкивался. Там все очень четко продумано. Каждый отвечает за свой участок работы. И делает свое дело. Если режиссер отдал неправильное указание – за это отвечает режиссер, а вот за выполнение этого указания отвечает группа. Это правильно, это хорошая система. Очень четко работает.
Вы по-прежнему состоите в оскаровском комитете?
- А это пожизненно (смеется)
А как Вы в него вошли?
- Мне позвонили и сказали:
«Приезжайте на совещание оскаровского комитета» - «Вы меня ни с кем не перепутали?» - «Нет, Вы же Николай Лебедев?» - «Да» - «Приезжайте».
Я не знаю, как я туда попал. Меня избрали, что для меня очень почетно и приятно. И это очень здорово. Потому что каждый год я получаю пакет новых фильмов, большинство из которых – самые интересные фильмы, снятые за год. И мне очень интересна работа в комитете, в котором состоят уважаемые мною люди.
Как вы считаете, наши фильмы достойно выдерживают конкуренцию в мировом конкурсе? Или нам чего-то не хватает?
- Понимаете, какая штука, Оскар – как и любое состязание сегодня, имеет политический подтекст. Все может повернуться в разные стороны. Это определенная игра. Например, в 1982 году в конкурсе были «Индиана Джонс», «Огненные колесницы», еще какие-то фильмы. Все знают «Индиану Джонса», а «Огненные колесницы», которые получили приз, Вы, наверное, и не видели. Сказать что они лучшие или хуже – я не могу. Это просто другой жанр.
Когда мы думаем о том, какой фильм предложить, мы исходим из того, в каких фестивалях фильм участвовал, какие призы собрал. Вот, к примеру, прекрасный фильм Звягинцева «Возвращение». Понятное дело, что не выдвинуть его было не возможно, картина получила международный резонанс. Но фильм не попал в тройку номинантов. Ну и что? Это не говорит о том, что фильм плохой.
Мне кажется, что к этому надо относиться спокойнее. Здорово, когда наши фильмы проходят в число соискателей. Но судить по этому критерию о фильме – бессмысленно.
А вы следите за результатами участия российских фильмов в наших кинофестивалях?
- Скажем так, для меня это не является определяющим. Я слежу, смотрю, запоминаю названия. Но это не значит, что я обязательно посмотрю эту картину. Есть категория фестивалей, про которые я понимаю: если фильм здесь победил, это будет очень скучно, очень мрачно, очень чернушно. Но так как я не люблю чернушное кино и вообще считаю, что искусство не имеет права вгонять в депрессию, то стараюсь этого избегать. У меня другие критерии при выборе картин для просмотра. Это имя автора, актеры, сюжет.
А какие фильмы любите Вы?
- Я очень люблю Спилберга. Мне кажется, это выдающийся режиссер. И все его картины, даже не очень удачные, я пересматривал по нескольку раз, потому что нахожу в них интересные режиссерские решения, образы. Я люблю Скорсезе. Обожаю Хичкока. Орсон Уэллс мне очень нравится, не все его картины, но «Гражданин Кейн», «Печать зла». Мне по-режиссерски очень нравится Эйзенштейн. Для меня это высшая азбука кинематографа. Очень интересно, как это сделано. А из кинематографа, который происходит каждый день, что-то нравится больше, что-то меньше.
Я перестал судить кино. Для меня кинематограф – это лаборатория. К сожалению, в последнее время меня очень редко картины трогают эмоционально. Точнее они продолжают меня волновать, но я вижу, как это сделано: я вижу, где ставят свет, как работаю артисты, вижу, как выстроена та или иная сцена, как они между собой сочетаются. И ничего не могу с собой поделать, к сожалению. Раньше я смотрел кино как зритель – погружался и летел; сейчас, даже погружаясь, я все равно все разбираю на составляющие. Поэтому мне стало тяжело смотреть фильм, потому что через 5 минут я уже перенасыщен всякого рода информацией. Сейчас я пытаюсь перевоспитать себя и вернуть себе прежнее зрительское ощущение, чтобы кино мне просто нравилось или не нравилось.
А можно сейчас говорить о том, что ждет в ближайшем будущем вашего зрителя? Над чем вы сейчас работаете?
- Над собой (смеется). Я разрабатываю проект… Я тут подсчитал, что за последний год я разработал больше проектов, чем за всю свою жизнь. Но сейчас кризисное время, кинематограф находится в состоянии разработки проектов, вот и я разрабатываю, разрабатываю, разрабатываю… Продюсеры приглашают, я разрабатываю проект, потом это останавливается, потому что нет средств. Они начинают искать средства, тем временем я ухожу разрабатывать следующий проект. Пока такая ситуация. Есть, как мне кажется, интересные наметки и интересные сценарии – даст Бог.
А что это будет по жанру – фэнтези, шпионский триллер или что-то новое?
- Это будет новое, что я еще не делал. Хотя мне хочется сделать фэнтези, есть такой проект, но не древние века, а современный мир. Захватывающая зрелищная романтическая история. У меня есть фильм-катастрофа. Есть триллер. Есть психологическая драма. Спортивная драма. Чего только у меня нет!
Любовная история с хорошим финалом?
- Это «Фонограмма страсти».
То есть это уже было? Кстати, спасибо за красивый фильм с хорошим финалом. Весь фильм я ждала с сожалением, что все плохо закончится…
- Я думаю, что мы не имеем право на плохие финалы. Наш современный кинематограф стал каким-то извращенным. Даже трагедии Шекспира могут заканчиваться трагически, но никогда не чернушно. Автор не отбирает надежду. Ромео и Джульетта умирают, но заканчивается история примирением двух враждующих родов. И надежда есть, что дальше все будет хорошо, что смерть не напрасна. Наш кинематограф стал отбирать надежду. Мне кажется, это преступно. Искусство, которое отбирает надежду – не искусство.
Искусство всегда звало человека вверх, и даже в простых сюжетах мы не имеем право делать финал трагическим. Так что, напрасно вы ждали плохого финала. Как можно убить главного героя «Фонограммы страсти» Фабио Фулко?!? (смеется) Или героиню? Пусть живут и наслаждаются жизнью.
Конечно, бывают истории, где радостного финала не может быть по определению. Например, «Звезда» - я не мог сделать так, чтобы персонажи остались живы. Ибо это был реквием изначально. Я видел рыдающие залы, но у меня не было ощущения, что у людей отнимали надежду, они, наоборот, выходили из зала просветленными, потому что они вспоминали своих близких, тех, кого даже не знали. Эта картина как раз взывает к памяти, а не отбирает. Мне кажется это очень важным. Искусство должно нести надежду. Иначе это не искусство.



































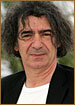







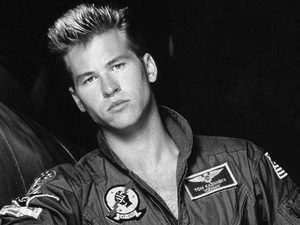





обсуждение >>