Чем дорог этот оператор для нас – таджиков, таджикистанцев? А тем, что он является оператором-постановщиком ныне ставшего культовым фильма «Судьба поэта» – кинопроизведения, посвященного одному из этапных периодов истории таджикского народа – эпохе Саманидов, эпохи Рудаки. Его зовут Николай Владимирович ОЛОНОВСКИЙ. 27 декабря ушедшего года ему исполнилось 90 лет.
ПОЯВЛЕНИЕ самой идеи создания такого фильма, как «Судьба поэта», имело социокультурный контекст. Дело в том, что конец 50-х – начало 60-х гг. – это новый этап формирования идентичности таджиков в составе СССР. В этот период таджикская художественная интеллигенция была более всего занята проблемами национального самосознания. И в контексте этого она искала источники в духовном наследии прошлого.
Задача эта была не из легких. Тогдашние лидеры советской идеологии очень ревностно относились к проблеме национального, разделяли национальную культуру на эксплуататорскую и демократическую. И с подачи местных пролеткультовцев (в 30-х гг.) Рудаки, Фирдоуси, Саади, Хафиз и другие выдающиеся личности рассматривались как представители эксплуататорской культуры, и их надо было «выбросить за борт корабля истории». Но С. Айни, А. Лахути, Б. Гафуров и другие представители таджикской интеллигенции, рискуя карьерой и свободой, даже жизнью, отстояли право народа на освоение своего духовного наследия.
Приехавший по приглашению Б. Кимягарова Николай Олоновский, разумеется, не так глубоко был осведомлен об этой духовной тенденции таджиков, как его коллега. Но его заслуга в другом. Он пытался помочь своими профессиональными знаниями и способностями Кимягарову, который наряду с элитой таджикской интеллигенции пытался художественно переосмыслить историю таджиков, показать миру ее истинное прогрессивное, гуманистическое, лицо.
Главная тема фильма «Судьба поэта» – власть и поэт. Суть всей философии фильма заключалась в том, что если власть является образованной, мудрой, справедливой, то в этом государстве могут появиться такие великие поэты, как Рудаки. Если же власть невежественна, то поэты и интеллектуалы исчезают, государство сереет, гаснет очаг культуры и прогресса.
Олоновский как оператор способствовал осмыслению именно этой концепции. И это при том, что техника была несовершенная: тяжелая, громоздкая кинокамера, которую обслуживали два-три человека, тяжелая осветительная аппаратура, операторский кран, рельсы и тележка… Всем этим надо было пользоваться так, чтобы в итоге создать такой изобразительный ряд, который позволял бы без дополнительных комментариев, без слов, как в музыке, увидеть все величие и значимость эпохи Саманидов, величие Рудаки.
Были у Олоновского и некоторые другие сложности. У молодого оператора не было опыта съемок фильма подобного историко-биографического жанра. Другая сложность заключалась в том, что Б. Кимягаров симпатизировал мительмановской модели постановки пьесы С. Улугзаде. (Государственный академический драматический таджикский театр им. А. Лахути в те самые годы поставил спектакль «Рудаки» по пьесе С. Улугзаде. Постановщиком этого спектакля был Ефим Исаевич Мительман.) Вероятно, Кимягаров неоднократно видел эту сценическую постановку и, очевидно, был пленен ею. Но, так ли это или нет, фактом является то, что фильм создавался по сценарию Улугзаде, который мало чем отличался от того, что было поставлено на сцене театра.
Наряду с этим режиссер пригласил почти всех актеров, участвовавших в этом спектакле. Помимо прочего, художники-постановщики фильма: И. Шпинель, Д. Ильябаев, К. Ефимов - построили большое количество декораций, воссоздающих фактуру эпохи Рудаки.
Дополнительно к этому была изготовлена большая партия костюмов, грима, способствующих созданию образа истории Х века. Все это в совокупности располагало к «театральности», диктовало создание фильма-спектакля.
Впоследствии практически так и вышло. Фильм больше напоминает замкнутое в пространстве представление. Много павильонных сцен. Натурных съемок весьма мало. Таким образом, Кимягаров, который был во власти театральной постановки, вовсе не стремился в киноверсии уйти далеко от театральной модели. Однако это нисколько не означает, что «театральность» фильма снизила его художественные достоинства. Именно органичное сочетание и чередование «театральных» сцен с натурными мизансценами создало удивительно цельную, органично сплетенную линию повествования, что в целом создало общее впечатлении о произведении как о продукте кино, а не театра. Неслучайно эта работа впоследствии получила главный приз – «Золотого орла» на Каирском МКФ стран Азии и Африки (1960) и была названа «сталинабадским чудом».
И в этом немалая заслуга Олоновского. Очень точно подметил роль оператора в аспекте его слаженной работы с режиссером, художниками, актерами, с композитором известный киновед А. Ахроров: «Авторы фильма создали ряд незабываемых сцен, раскрывающих поэтическую силу Рудаки… Все это снято оператором Н. Олоновским панорамой, в мизансцене, где воины составляют несколько кругов, на переднем плане – кони, седла, ноги всадников, а на дальнем – следующая приближающаяся к реке группа. Графически дугообразное построение кадра подсказано эмоциональной силой стихов…» В конечном счете, как справедливо отмечает А. Ахроров, все это является «плодом творческого прочтения поэзии Рудаки» (Ахроров. Таджикское кино (1929–1969). – Душанбе: Дониш, 1971). Эта сцена наиболее ярко свидетельствует о работе великолепного кинооператора.
Поэтому, отмечая сегодня юбилей этого блистательного кинооператора, мы, таджикистанцы, с особой благодарностью обращаемся к Николаю Владимировичу с пожеланиями здоровья и огромной признательности за неоценимый вклад в историю нашей культуры.
Садулло РАХИМОВ
3.01.2013








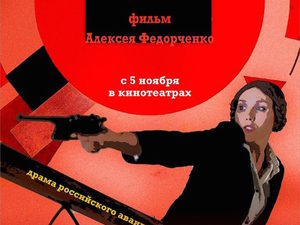
обсуждение >>