...И в третьем своем историческом произведении — «Декабристы» — Ивановский и Щеголев вернулись к привычной уже схеме мелодрамы, протекающей на широком общественном фоне. Но история романтической любви декабриста Ивана Анненского и француженки Полины Гебль, подобно русским женщинам последовавшей за мужем в Сибирь,— история, кстати отметить, совсем не выдуманная, в отличие от «Дворца и крепости», плохо увязывалась с главным — с мозаикой эпизодов, рассказывающих о вспышках крестьянских мятежей, организации дворянских кружков, восстании декабристов. Просчеты, очевидные в «Дворце и крепости», в новом фильме разрослись в столь большие недостатки, что вторая серия — «Пламенеющий полюс» — не была даже выпущена на экраны.
Стоит вспомнить, что противопоставления разнородных кадров во «Дворце и крепости»,{}— противопоставления, казавшиеся в то время, да и бывшие на деле новацией и вызывавшие восхищение современников, были чреваты опасностью «не скрещивающегося параллелизма» (Эйзенштейн). Параллельные, яркие по отдельности изображения не сливались в единый образ, не давали чего-то большего, кроме противопоставления черного — белому, хорошего — плохому, нравственного — безнравственному. Именно это обстоятельство и было одной из причин неуспеха «Степана Халтурина». {} В «Декабристах» эти просчеты усугублялись тем, что можно назвать растворением главного во второстепенном. Сама по себе любовная история была преисполнена лиризма и романтики. Сообщенный рекламой факт исполнения роли Полины ее правнучкой Барбарой фон Анненковой подогревал интерес зрителей именно к любовной сюжетной линии, но... фильм-то задумывался как история декабризма. В книге Ивановский пишет в этой связи: «...в центре картины романтическая история, а декабристы показаны только фоном! Это, конечно, была наша ошибка — моя и Щеголева».
Ромил Соболев
«20 режиссерских биографий». Издательство «Искусство», Москва 1971 год (стр.129-130)




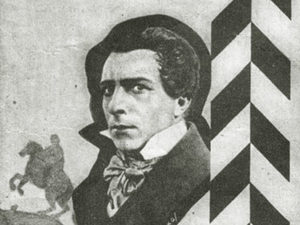








обсуждение >>