Екатерина Барабаш о «Рае» Кончаловского, «Аустерлице» Лозницы, «Франце» Озона и фильме «Почетный гражданин» Гастона Дюпра и Мариано Кона
До конца Венецианского фестиваля остался по сути один день –
Сэм Мендес и сопутствующее ему жюри раздадут «львов» в субботу вечером. Мы, конечно, не знаем и не можем знать, что там у Мендеса в голове и какую линию поведения выберет в этот раз судейская коллегия. Но мы со своей скромной патриотической и объективной стороны выразим уверенность, что новый фильм
Андрея Кончаловского «
Рай» вниманием не обойдут.
Кончаловского на острове Лидо любят. Он тут начинал (учебная короткометражка «
Мальчик и голубь», ставшая обладателем призом за лучший детский фильм), тут он продолжил (Гран-при «
Дому дураков», «лев» за «
Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына» как лучшему режиссеру), и тут отлично приняли его «Рай». Публика аплодировала истово.
В фильме три героя – русская эмигранта Ольга Каменская (
Юлия Высоцкая), немецкий офицер Хельмут (
Кристиан Клаус) и французский полицейский-коллаборационист Жюль (
Филипп Дюкен). Каждый из них сидит один-одинешенек в белых одеждах тюремного вида в кадре, рассказывая то ли зрителю, то ли господу богу о своей жизни. Каждого из них уже нет в живых – это голоса из вечности. История жизни, рассказанная каждым из героев, - что-то вроде экзамена перед воротами рая. Впустят – не впустят?
Ханс, начальник одного из концлагерей, встречает там женщину, в которую когда-то был влюблен, - Ольгу Каменскую. Былые чувства вспыхивают вновь, и Ханс готов помочь Ольге. Но война страшна, помимо всего прочего, тем, что добра на ней не существует. Совсем. Любое благое намерение, выросшее из неправедности, обречено воплотиться в зло. Зло умеет хорошо прикидываться добром, надеясь обмануть высшие силы и пролезть в рай, таща за собой тонны созданного им же ада.
Кончаловский рисует ад на земле, который создали те, кто мечтает о рае. Немец Хельмут, отправляя людей сотнями в газовые камеры, мечтает о том, что скоро на земле останутся лишь самые достойные и наступит всеобщая благодать. Француз-полицейский, поставляющий гестапо участников Сопротивления, мечтает помочь Ольге и втайне гордится своим благородством. И только Ольга, попав в лагерь, молча совершает подвиг, не надеясь на снисхождение бога на небесах. Вряд ли надо долго соображать, чтобы понять, кто из них обретет вечный покой и свет.
Кончаловскому надо отдать должное – он сделал фильм, который надо было сделать непременно в современной России, лишенной рефлексии, убежденной в своей исторической правоте по всем фронтам. Сейчас как никогда надо и важно напоминать, что война была на всех одна, что даже отъявленные злодеи, придумавшие газовые камеры, - люди, имеющие право на свои оправдания перед Всевышним. Мысль не самая новая, но необходимая в эпоху исторического снобизма. Кстати, и французам, так и не отрефлексировавшим ни Великую французскую революцию, ни коллаборационизм в годы Второй мировой, неплохо бы поучиться у немцев обращению с собственной виной.
Выбрав верный интеллектуальный путь своего фильма, Кончаловский при этом все-таки запутался с его художественным оформлением. В картине есть отменно выполненные сцены – например, сцена допроса Ольги в полиции Жюлем, монологи немецкого офицера в исполнении молодого немецкого актера Клауса, некоторые «бытовые» сцены в концлагере, которые лучше всего живописуют ад на земле в чистом виде. При этом – увы – бросается в глаза скованность Юлии Высоцкой в сценах монологов.
Порой возникает ощущение, что режиссерское задание ей то ли неясно, то ли выполнить его не под силу. Все-таки это совсем уж высший пилотаж – долгий монолог на крупном плане. Высоцкой обычно хорошо удаются эмоции и ограниченное лицедейство, но вот с игрой на нюансах, столь необходимой в театре одного актера, что-то не заладилось.
Вокруг темы памяти вращается и сюжет документального фильма
Сергея Лозницы «
Аустерлиц». Точнее – сюжета как такового нет, а есть камера, поставленная в концлагере, которая наблюдает за приходящими сюда на экскурсии туристами. Вот кто-то делает селфи на фоне газовой камеры, вот парочка обнимается, вот шествует кто-то в яркой футболке с издевательской в таком месте надписью «It’s your lucky day». Индустрия развлечений на тысячах и тысячах костей? Лозница вроде бы бесстрастно наблюдает за копошением человеческих фигур, его камера молча фиксирует происходящее, а мы, наверное, должны возмутиться кощунством. Но что-то мешает. Сначала не понимаешь, а потом догадываешься: высокомерие режиссера. Он тут судья, играющий в беспристрастность. Он молчит, но в молчании слышно осуждение всей этой кощунственной толпы. В общем, Лозница, конечно, прав отчасти – не дело позировать на фоне газовой камеры и делать селфи перед зловещей надписью «
Arbeit macht frei». Но отчего не быть снисходительными к этим людям, которые приехали именно чтобы лишний раз помянуть, ужаснуться, вспомнить ради того, чтобы «никогда снова»? Неумение себя вести еще не означает забвения, хотя «индустрия Холокоста», конечно, должна быть сведена к минимуму на государственном уровне.
Ну и в заключение хотелось бы выделить работы, чье присутствие в конкурсе оказалось более чем уместным и обнадеживающим.
Конкурсный фильм из далекой Аргентины «
Почетный гражданин» режиссеров
Гастона Дюпра и
Мариано Кона вызвал скандал у себя на родине. Герой фильма, писатель Даниэль Мантовани, нобелевский лауреат, приезжает в город своего детства, в котором вырос и из которого сбежал в двадцать лет. Начало кажется банальным и обещающим скучную мораль: только припав к корням, настоящий художник может до конца состояться как художник. Однако возвращение в городок Салас (городок, разумеется, тоже вымышленный) через сорок лет оказывается худшим решением в жизни Даниэля.
Прелестная поначалу атмосфера всеобщего обожания, присвоение звания почетного гражданина, встречи с друзьями детства, умилительные знаки внимания со стороны местных жителей и трогательная провинциальная наивность постепенно размыкаются, открывая пропасть. На одном краю этой пропасти – писатель с мировым именем, на другом – затхлое болото провинциального бытия, в котором за дружелюбными улыбками кроются то завистливый оскал, то ревность, то обида за собственную неудачливость. Писатель говорит с родиной на разных языках, и чем дальше, тем выше стена непонимания. Итог жесток и плачевен. Начавшись ироничной комедией, фильм преображается – теперь перед нами социальная драма, построенная на противостоянии двух миров.
Аргентина обиделась на создателей этого фильма и едва не линчевала авторов, как жители вымышленного Саласа – главного героя. И местная интеллигенция раскололась пополам – одни уверены, что авторы обратили внимание на больные точки аргентинского общества, другие сочли, что фильм оскорбил всю нестоличную часть страны, показав провинцию болотом, из которой надо бежать чем раньше, тем лучше.
Европейскому зрителю, для которого понятие «провинция» ассоциируется лишь с географической отдаленностью от столицы, да и то – учитывая европейские расстояния, отдаленностью не фатальной, этот фильм понять будет труднее. А вот нам, жителям необъятной России, где «провинция» становится чуть ли не ругательным словом, «Почетный гражданин» понятен.
Аргентинская картина напомнила последний фильм
Отара Иоселиани, снятый на родных берегах, - «
Пастораль», который опровергал существование «единой общности – советского народа», но показывал два мира, которым не сойтись никогда. После того как фильм положили на полку, а Иоселиани предали анафеме, режиссер уехал из страны, где ему не дали стать возмутителем спокойствия. По крайней мере – возмутителем спокойствия чиновников.
А вот другой возмутитель, француз
Франсуа Озон – тот наоборот постепенно, на глазах превращается из enfant terrible в глубокого, сильного своими гуманистическими убеждениями, режиссера.
«
Франц» Озона, снятый в Германии и с немецкими актерами, - экранизация пьесы французского драматурга
Мориса Ростана «Человек, которого я убил», - была представлена в венецианском конкурсе. В 1932 году эту пьесу экранизировал
Эрнст Любич, дав фильму название «
Недопетая колыбельная». По сюжету пьесы, вскоре после Второй мировой войны в Германию приезжает молодой француз – он ищет семью убитого им на фронте немца, Франца, чтобы попросить прощения у его родителей и невесты, и в результате влюбляется в невесту своей жертвы, Анну. Девушка отвечает взаимностью, и зрителя ждет почти хэппи-энд. Однако Озон начисто отверг благостную идею всеобщего прощения и мирного счастливого сосуществования убийцы и его жертвы. По мнению режиссера, ни о каком мире речи идти не может – война калечит без надежд на излечение. И сколько бы лет ни прошло, убийца все равно останется убийцей, а жертва – жертвой.
Мощный пацифистский пафос Озон облекает в мелодраматическую форму, сопровождая повествование своими излюбленными выпадами на грани китча.
«Франц» - черно-белое кино, но когда герой предается романтическим воспоминаниям, экран расцветает. Только потом, когда воспоминания оказываются ложью, понимаешь, что у Озона цвет – признак лжи. Как в жизни. А сама жизнь, настоящая, правдивая – черно-белая. И в этой черно-белой жизни нет ни справедливости, ни возмездия.
















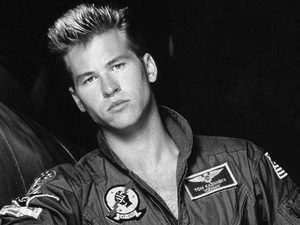


обсуждение >>