
Новости кино

Интервью
Актер и фотограф – о классике и современности, «Преступлении и наказании», жизни здесь и сейчас и благотворительности

Новости кино
В новых сериях сотрудники ФСБ приблизятся к разгадке тайны Архитектора
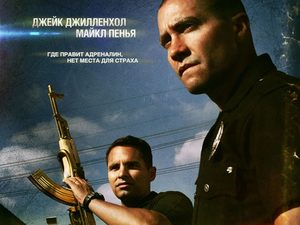
Спутник телезрителя
В ночь с 14 на 15 апреля, 01:55, ТНТ

Главная тема
А какая работа мэтра больше всего впечатлила вас?

Обзор сериалов
Выживаем в бункере, офисе и России, на постановке Шекспира и в окружении зомби-грибов

Лайфстайл
Пара воспитывает сына Петра и дочь Павлу

Лайфстайл
Бытовой конфликт с участием алкоголя




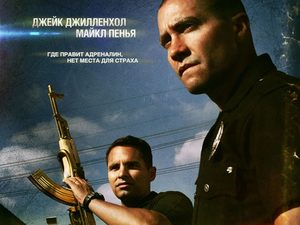




обсуждение
До сих пор помню, как будучи студеном другого курса я был на его репетициях выпускного спектакля ГИТИСа «Много шума из ничего» Шекспира.. Это была настоящая Школа.
В 1968 году, когда я был на 2 курсе, он начал преподавать в Государственном Институте Театрального Искусства — ГИТИСе им. А. В. Луначарского (ныне «РАТИ» — Российская Академия Театрального Искусства). За долгие годы преподавания в этом ВУЗе он участвовал в выпуске шести актерских курсов и двух национальных студий (Калмыцкой и Киргизской). С 1992 года В. Н. Левертов — профессор кафедры мастерства актера ГИТИСа.
Среди многочисленных учеников Владимира Левертова: Татьяна Веденеева, Виктор Сухоруков, Татьяна Догилева, Юрий Стоянов, Евгения Добровольская, Михаил Богдасаров, Андрей Звягинцев, Анна Терехова, и многие другие замечательные артисты.
Нар. артистка России Татьяна Догилева, игравшая Беатриче в том замечательном, незабываемом спектакле:
«...мы и тогда сразу понимали, на первом курсе, как нам повезло с Левертовым. …студенты сразу понимают, кто есть кто, и кто научит, а кто просто место просиживает. И всегда так было. Хороших педагогов по актёрскому мастерству очень мало. Очень мало. Это такая странная профессия, это такое странное обучение, что их единицы, этих людей, которые могут что-то вложить, чего-то добиться, вырастить актёра и вложить школу. Нет, это было везением. Его все обожали, любили и понимали, как нам повезло. И он уже на самом деле тогда как-то становился легендой…» (программа «Дифирамб» 5 марта 2017 «Эхо Москвы»)
Как жаль, что Владимира Наумовича Левертова в 1996 году не стало.
Теперь таких театральных педагогов нет. И уже не будет…Светлая память.
Далее копирую текст...
Мастер «странного» метода.
Он неспешно входил в аудиторию. С теплой улыбкой не из вежливости или желания расположить к себе внимательно окутывал греющим взглядом всех, каждого и начинался Урок. Урок исследования, самопознания, постижения мира, открытия глубин человеческих отношений, душеведения, мыслеведения, проницательного ума и тонко чувствующего сердца. Одним своим появлением, он поднимал аудиторию на порядок выше, объединял, отстранял от мелочного, суеты сует будней. «Праздник, который всегда со мной» - так определил свое призвание, свою педагогическую миссию Владимир Наумович Левертов. Да, это был праздник. Праздник, который начинался с него. «Театр – дело веселое», - повторял он неоднократно. А какая сложная, порой непосильная, работа таилась за этой веселостью – это каждый из учеников ощущал очень скоро.
Первый курс. Упражнения, этюды, постижение азов профессии и себя в ней. Успех, провалы, восторг от собственной гениальности и отчаяния от своей бездарности. Все одновременно. «Ну, не надо, вот это не надо», - слышу голос Владимира Наумовича, - К этому надо относится нормально». Нормально – это значит без паники и истерики, без благодушия и успокоенности, естественно, по-рабочему. Тренинг на «освобождение мышц», «внимание», упражнение на беспредметные действия– все привычно и понятно для меня, ассистента-стажера.
Тщательно, аккуратно, с толком в отношении логики и последовательности, проделывает упражнение на беспредметные действия Сергей Теппер. Через мясорубку проворачивает мясо, лук для котлет. Спокойно, тщательно, по-деловому. Все будто правильно, да как-то не по-человечески, будто автомат на конвейере. «В каждым, даже простейшем физическом действии ищите препятствие», - направляет Владимир Наумович. Препятствие тут же обнаруживается «в мясорубку попал хрящик, лук вызывает слезы и т.д. Выбираются наиболее выразительные из них, упражнение приобретает очертания этюда. И перед нами живой Сережа, со своими трудностями, переживаниями. Борется со слезами, утирая глаза тыльной стороной ладони, подвернутым рукавом… Интересно! «Наличие препятствий – условие существования действия. Их преодоление – условие конфликтного существования человека на сцене» - записываю после урока.
Обилие этюдов. Каждый должен представить свой. Студенты творят. Владимир Наумович смотрит терпеливо, внимательно на нескончаемо длящиеся этюды. Они разные: и вполне убедительные, и немыслимо-надуманные. И каждый удостаивается подробнейшим разбором: уточняются обстоятельства действия, глубоко анализируется его целесообразность и оправданность, идет поиск природы индивидуальности каждого. Этюды на «преодоление препятствий» занимали значительную часть программы первого семестра и не только на основе беспредметных действий, но и с реальными предметами. И обеды-то готовили, и обувь чистили, приводили себя в порядок, пришивали пуговицы, собирали рассыпавшиеся бусы – бесконечная череда бытовых действий, выполняемых с максимальной точностью, подробностью, неспешностью. «Но ведь это скучно!» - не выдерживал беспокойный стажер. «Это то, что не вызывает у меня никакого сомнения. Дайте им делать дело, нормально делать дело. Пусть успокоятся и полюбят до конца выполненное, элементарное физическое действие, и не тужатся быть нескучными».
Но вот пришло время этюдов на «общение», взаимодействие. В основном это были парные этюды. Мною замечено, что термины «общение», «органическое молчание» не были в ходу у Владимира Наумовича. Все чаще и настойчивее он повторял: «Ситуация, природа отношений, природа конфликта». Требования «органического молчания» не было. Говори сколько хочешь, сколько требует ситуация этюда и реализация конкретного конфликта.
Конфликт, существовавший в сфере реальных или мнимых предметов, постепенно переходил в область человеческих отношений. Раздел «общение» имел у Владимира Наумовича другое определение – сначала этюды на «открытый», а позже на «закрытый» конфликт.
Этюды на «открытый» конфликт – это исследование природы отношений людей в лобовом, прямом столкновении. «Закрытый» - требовал ситуации, где прямое столкновение до определенного момента скрывалось и цель достигалась более сложными психологическими приспособлениями. Видя мое желание постигать, анализировать, Владимир Наумович говорил: «Занялись бы изучением конфликта, его природы, его типов, законов его существования и развития». Однако, «шоковое» оцепенение от обилия новой информации временно парализовало все мои аналитические центры.
Этюды сыпались как из рога изобилия. Темы для этюдов никогда не диктовались, не подсказывались. Названия этюдов, отобранных для показа, давались по месту действия («Во дворе», «в магазине» и т.п.), по состоянию погоды («первый снег», «зимой») или по самому общему предлагаемому обстоятельству («урок музыки», «репетитор»). И никогда по главному событию этюда, более того, основополагающим понятием «событие» Владимир Наумович в работе не пользовался. Стажерский ум терялся в догадках и объяснениях. Состояние оцепенения приобретало затяжной характер. Сделать этюд без события, без его осознания, без поиска определения творческих задач? Начиналось что-то новое в моем постижении профессии, которое началось у Л.П.Новицкой – непосредственной ученице К.С.Станиславского по Оперной студии и упрочилось на семинарах Кацмана и Товстоногова. Мои представления давали трещину: одну… другую… Вместо «событие», «сквозное действие», «творческие задачи» предлагались: «ситуация», «природа отношений», «конфликтное существование», «цель»… Нечто очень зыбкое, не имеющее ни начала ни конца во времени, ни определенных глагольных очертаний. Конструкция на глазах размывалась, как будто кто-то очень искусно заменял картины Шишкина на пейзажи К.Моне.
Свободное парение над «событиями» и над «творческими задачами» начинало все-таки завораживать. Глубоко погружаясь в атмосферу репетиций Владимира Наумовича, начинаю ощущать его «руку», его сопричастность к происходящему процессу.
Время на импровизацию не ограничивалось никогда. Этюд длился до тех пор, пока студенты не выдыхались, варианты конфликта исчерпывались, аргументация начинала буксовать. Это могло длится и десять минут, и двадцать – столько, сколько нужно. Затем начинался разбор (?), обсуждение (?), анализ (?), – нет, только не анализ. Анализ – это разложение, постижение по частям, по составляющим причинно-следственной связи. Вот этого и не было. Постигать, размышлять по сути увиденного Владимир Наумович начинал с глубокого проникновения в природу отношений. На глазах удивленных студентов обнаруживал главное «ведущее звено», лежащее в основе конкретных отношений между конкретными людьми. После осмысления ситуации, природы отношений, как-то само собой становились понятны причины «пробуксовки», очевидней логика конфликта, яснее перспектива его развития.
Вспоминаю этюд «Урок музыки» на «закрытый» конфликт (с более сложной формой взаимодействия-партнерства) и вновь ощущаю в душе щемящее чувство. Впечатление, как от тонкого камерного спектакля, как от ноктюрнов Шопена. А всего-то на всего…
Забегают однокурсники в свободную аудиторию. Он и она. (В.Клементьев и О.Башкина). Ему нужно, чтобы она усвоила нетрудный аккомпанемент, подходит к фортепиано. Он начинает ее обучать несложному фрагменту. Она очень старается, но не получается. Он объясняет, играет сам, увлекаясь своей игрой. Она поглощено слушает, смотрит на него и уже не урок ее интересует, а он сам. Он, ничего не замечая, пытается продолжить урок, но у нее игра совсем не ладится. Он до поры до времени терпелив. Но вот…. Вспышка досады, она выбегает из аудитории. Он ничего не поняв кричит вслед: «Оля, ты что!». И все. Сколько подобных этюдов я уже видела, ни раз, и сама делала их со студентами. Но в этом и отличие в «сотворить» (искусство) и в «делать» (ремесло).
У Владимира Наумовича, казалось, все рождается само собой. Ничего не навязывается и не придумывается. Это их жизнь, Валентина и Ольги. Их микромир, природа отношений, близкая и понятная им.
Трудно зафиксировать словами то, что составляло животрепещущую ткань этюда – атмосферу, самочувствие, взгляд, дыхание. Это то, что каждый раз определялось только самими участниками, их готовностью и желанием так или иначе повернуть свои отношения – они не закреплялись, не фиксировались. Осознавался ход развития конфликта и цели. Поведение оставалось в зоне импровизации, оно было многовариантно. Варианты осмысливались с педагогом, но их выбор всецело зависел от самих студентов. Этюд никогда не был скучен для исполнителя: ловить ломанную линию отношений, соотносить свои желания и цели – тонкое, захватывающее дело, глубокий, чувственный процесс.
А в конце семестра от желающих попасть на показ к Владимиру Наумовичу не было отбоя. На этюды первого курса, просто этюды! Неброские, не поражающие выдумкой, просто фрагменты жизни, всем близкой, понятной, разнообразной и, одновременно, захватывающей, затягивающей в себя. Животрепещущая, чувственная ткань этюда, непридуманного, не поставленного. Каждый этюд дышал свободной импровизационного самочувствия и, вместе с тем, имел ощутимые грани внутреннего развития конфликта. Причинно-следственные связи были настолько глубокими, что создавалось впечатление единого, непрерывного, постоянно меняющегося потока жизни. Мотивы и побуждения настолько внятны, что казалось – это все они, сами студенты, своей индивидуальностью и органикой творят непридуманные этюдные истории, составляющие их бытие, их жизнь. «Наталья Борисовна, не ставьте ничего, пусть они сами». «Владимир Наумович, я хочу им помочь». «Не надо, они сами сделают то, что нам и не снилось». Я пытаюсь понять, как Владимир Наумович в процессе своих занятий и исследований, беседах и монологах о природе конфликта, отношений, жизненных ситуаций мог незаметно, как бы само собой, зажечь и проявить в учениках эту жизнь. Думала: «Ну хорошо. Это этюды. Посмотрим, что будет с драматургией, можно ли работать без привычных параметров действенного анализа?».
Год заканчивался основательной глубокой беседой о каждом студенте в отдельности. Речь шла не о достоинства и недостатках. Это было обстоятельное исследование индивидуальных особенностей личности в профессии на данном этапе. Сразу было ясно: за что «молодец», и какова перспектива развития на ближайшее время. Каждый нес эту перспективу на каникулы.
Из ГИТИСовского архива смотрю видео записи Владимира Наумовича разных лет и слышу его голос: «Элементарное действие на воздухе… поле, небо, сад, ветер, снег, дождь…» Воображение опирается на ясные представления «своего». Это исследование «я» в предлагаемых обстоятельствах. Я трансформируюсь настолько, насколько позволяет мое «Я» путем отбора предлагаемых обстоятельств. Как четко он чувствовал границы возможностей каждого «Я» у своих учеников!
«Найдите способ открыть вашу природу, а не уродовать ее, не ломать. Вы разгадываете себя, мы разгадываем вас – вот и процесс общения. Со временем будем усложнять, но сейчас ваша природа должна раскрываться ясно». Это, пожалуй, и было главным требованием первого курса. Эта «ясность», очень сложная на деле, достигалось только благодаря педагогу. Вот, к примеру, простое (любимое у студентов) действие – искать что-либо часто используемое в этюдах. Искать – значит посмотреть здесь, тут, там. Задача, которые Владимир Наумович ставил в этом случае перед студентами «исчерпать каждый объект». Исчерпать – значит не просто посмотреть, а до конца вобрать в себя, соизмерить со своим желанием. Исчерпав объект – отказаться от него и перенести свое внимание на другой. Конечно об этом не думаешь, выполняя действие, но подсознательное ощущение объема и многозначности все-таки другое. Почти всегда выходило у Владимира Наумовича так, что даже простое действие несло в себе эту неоднозначность, давало ощущение достижения цели, а не выполнения задачи. «Подлинность действия проверяется по развитию», - не раз повторял Владимир Наумович. Искусство педагога Левертова в его тонком умении материализовать эту подлинность через непрерывность партнерства, единую линию развития конфликта в этюдах. Первый год вместил в себя этюды на «преодоление препятствий», «открытый» и «закрытый» конфликты. Этюды на «характерность», «сценическую наивность» (наблюдение над животными, например) не включались в работу. «Воображение должно развиваться прежде всего в области человеческих отношений» - говорил Владимир Наумович желающим поиграть в зверей. Пристальное внимание к партнерству, умение ориентироваться в конфликте, «брать на себя» конкретную ситуацию, знать возможности своей индивидуальности, своей природы – это было главным.
Второй курс. Отрывки. Я, помимо самостоятельной работы со студентами – ассистент Владимира Наумовича в работе над отрывком из пьесы Эдуардо де Филиппо «Никто» (Де Преторе Винченцо). Что не репетиция – открытие и прозрение. «Что, пишите?» - обращался ко мне иронично и ласково, глядя через плечо. «Ну, пишите, пишите…». Пытаюсь расшифровать записанное на первых репетициях и понять каким образом он вел актеров от их природы руслом роли к новому качеству, как взращивал в каждом то самое, что Станиславский называл «артисто-роль»? «История героя-через себя» - это было главным руководством Владимира Наумовича в работе над драматическим материалом. Очень показательно: именно история, а не событийная конструкция проанализированного отрывка. «Докопаться до личностной сути» - главное в работе над «историей». Первые репетиции начинали «историю» задолго до самого отрывка. Десять репетиций из прошлого молодого мошенника де Преторе (героя пьесы Э.д.Филиппо) и влюбленной в него молоденькой девушки Нинуччи. Их первая встреча «крутануть красивое сказочное знакомство» - задание для первых этюдов. Из замечаний актерам после первых попыток. «Не придумали праздника». Далее – отбор предлагаемых обстоятельств, вскрывающих суть праздника, формирование конкретной ситуации Из замечаний В.Климентьеву, исполнителю роли де Преторе: «Быть фантазером! Ходить по небу! Найти способ поразить девчонку». На первых же этюдах – замечания будоражащие эмоциональную сферу актера «если этюд на любовь, то – ситуация или конфликта, или сказки. Сказки в том смысле, что он – сеньор в нищем доме, и она – влюбленная замарашка. После первых попыток этюда на знакомство – замечания Кате Зинченко (Нинучча): «Истинное впечатление от человека - в перемене отношений, переворот внутри, а «я его люблю» - это в обстоятельствах пьесы». Следует задание для Кати: «Продумайте график жизни без него, вокруг соседей, близких». Задание для Валентина – «Круг фантазий и планов «сеньора», азартного игрока с верой в невероятное». Валентин – актер сдержанный, интеллектуальный, поэтому ему заводится с пол-оборота необходимо с самого начала. «Не развращайте себя иллюстрацией! Ищите в себе перепады: он любит и он – вор! Не запирайте себя результативностью. Набирайте точность ощущений от Кати, в живом понимании партнера. Она занятна, пристраивайтесь к ней конкретно, ощущайте ее своеобразие, ее индивидуальность»
Замечания Валентину относительно роли де Преторе: «Найти способ сокрытия тайны. Он – не ночной жулик, ноющий, затравленный, а свободный и легкий человек. Надо встретить девчонку с шиком, уметь, когда необходимо, лихо выкручиваться, умело скрывать компромат – в этом жизнь героя. В этом его профессия. Не забывайте, что он сеньор».
После нескольких попыток Владимир Наумович, видимо, не удовлетворён этюдом. «Не ощущаете друг друга». Дается задание: придумать этюд на более близкую Валентину и Кате коллизию. Усиливаются обстоятельства любви, уточняется мотивировка желания уйти от прямого объяснения. Необходимо «поймать изначальное понимание дружеской встречи». Этюды «первой встречи» сменяются этюдами «первого свидания». «Она впервые пришла к нему домой. Смысл этюда – вступить в новый этап отношений». Первая попытка. «Играется теоретический вариант». Замечание: «необходимо идти через четкое движение в себе к любовному варианту». Индивидуальная задача Кати: «Убедиться: он-мой, «страхи закончены». Валентину: «Надо удержать! Появились страхи потерять ее». «Пролом» в отношениях. Надо выявить природу «пролома». Кате: «У Нинуччи характер не воробья, она большой и сильный человек, не щебетунья – леди Макбет». Еще попытка и удачная. Владимир Наумович доволен: «что ж, этюд пойман. Этюд закрыт».
Шестой день репетиций. До отрывка еще ого-го сколько! После предварительных этюдов «первая встреча» и «первое свидание» - целая серия их под названием «Апельсины». Тюрьма. Нинучча впервые приходит к Преторе в тюрьму (приносит апельсины), но это внешний круг обстоятельств. А далее – исследование, поиск внятности и неоднозначности ситуации встречи Нинуччи и Преторе в тюрьме. Владимир Наумович неумолим: «Не надо бесконечной заданности!». Для Кати – Нинуччи: «Все прощу», - не надо! А вдруг он (Преторе) убежденный подонок? Нинучча любит и не может примириться: он – вор. Как быть? Через боль и страдания за него Нинучча понимает: если он будет воровать ей не пережить позора. Так боритесь за него! Не страдать с ним – бороться за него! Надо возвращать его к самому себе. У вас это – посещение больного от профсоюза. Невнятна ситуация. Главное в том, как понимание случившегося (арест Преторе) соединяется с необходимостью быть с любимым? Смысл прихода к нему – поддержать де Преторе, укрепить его в вере: ничего не изменилось, люблю, как прежде, все по-прежнему между нами».
Для Валентина – Преторе: «Почему гоните ее? Потому что невозможно, по вашему убеждению, ждать два года. Но хочется верить, что дождется! Конфликт – столкновение веры и неверия. Надо осознавать обреченность любви и, одновременно, жить надеждой на бесконечность отношений». Трудная задача для исполнителя. Владимир Наумович подсказывает «ход» Валентину: «уйдет Нинучча, когда сама сочтет нужным, а сейчас – она пришла, ей в радость, ей нужно это ощущение свободы, пусть и кратковременное. Надо этому соответствовать».
Еще попытка… И неудачная…
«Не теряйте объем ситуации. Сейчас играйте иллюстрацию, а надо выкарабкиваться! И при этом: «не хочу, чтобы жалели!»
Далее Владимир Наумович прибегает к аналогии. Идет ряд попыток на более близкую Кате и Валентину жизненную ситуацию. Этюды на поиск «способов обращения в свою веру». Затем опять возвращаются к «апельсинам». Смысл этюдов – подготовить встречу Преторе и Нинуччи по выходу из тюрьмы; взрастить в исполнителях точность и непосредственность взаимного ощущения и желания контактности друг с другом. Этюд – трудно, но после многочисленных мучительных попыток, выравнивается, становится «внятным» и «неоднозначным». Владимир Наумович переходит к следующей серии этюдов: «Встреча после заключения». Это уже непосредственно по отрывку пьесы на одиннадцатый (!) репетиционный день. Исходные обстоятельства для Кати – Нинуччи как бы само собой выявились – «тревога, как начать решительный разговор с Преторе». Это то, с чего Катя и Валентин начнут свое существование в отрывке.
Неизбежность судьбоносного разговора в момент первой встречи на воле. Наконец свершилось то, чего так долго ждали оба. «Выход из тюрьмы, начало новой жизни». Владимир Наумович ведет свое исследование. «Что такое для вас, Валентин, выход на свободу? Каким образом переходим от любви к делу?». Это будет исследоваться множеством этюдов. Затем шаг за шагом исследование этапов конфликта, поиск самочувствий, бесконечное уточнение ситуаций, выявление целей и поиск способов существования. И дальше, дальше «от себя» - к истории влюбленных: как не верит он, как «бьется она с его нигилизмом». Каждое замечание Владимира Наумовича направлено на поиск верного самочувствия: «как сидеть? Искать тишину, внутреннюю тишину, слушать друг друга в тишине… и поцелуй – из внутреннего созвучия. Утонуть в глазах друг друга»…
На пятнадцатой репетиции формируется главный смысл отрывка: «Он о вере, о святом в душе. Она своей чистотой спасает его душу». И дальше – бесконечная цепь репетиций, главное в которых – «существовать в конфликте», «понять свободу и любовь», поиск нужного варианта поведения, борьба с рассудочностью за эмоциональность проявления индивидуальности. Кате: «брать истовостью». Валентину: «выпотрошить себя». Словом, упорный поиск проявлений полноты жизни.
Отрывки, над которыми работал Владимир Наумович отличались глубокой органикой исполнителей, естественным проявлением их индивидуальностей, убедительностью самочувствий, свободой импровизаций, напряжением и динамикой логично развивающегося конфликта.
На третьем курсе – грандиозное по глубине и фантазии, дышащая жизнью «Дорогая Памела» спектакль по пьесе Д. Патрика. Бесчисленный ряд ярких, талантливых репетиций, глубоких прозрений и неуловимых погружений в самую сердцевину человеческих отношений, мастерское выявление душевных качеств молодых артистов. Потрясающее соединение незаурядных аналитических способностей режиссера, его творческого воображения и блистательного владения индивидуальными особенностями студентов. Как это возможно? Какими средствами, каким методом? А свой метод, конечно, был. Опытный театральный педагог – это всегда, прежде всего – метод. Деятельность Владимира Наумовича вполне заслуживает изучения, аналитического взгляда. Из записей репетиций очевидно: параметры метода действенного анализа (события, куски, творческие задачи) не просматриваются. Вместо событий – ситуация, содержащая в себе внутреннюю проблему и необходимость выхода из нее. Ситуация, которая формирует установку на разрешение проблемы естественным путем через мобилизацию всех сил организма. Ситуация дает возможность импровизации, многовариантности, непредсказуемости действия, невыстраиваемости конфликта. Ситуация – средство анализа драматического материала и средство ассимилирования с актерской индивидуальностью одновременно.
Ситуация, состоящая из обстоятельств, предлагаемых автором и обстоятельств близких жизненному опыту студентов складывалась таким образом, что в ней присутствовала проблема с возможными вариантами решениями. Владимир Наумович направлял ситуацию прямо в сердцевину «двигателей психической жизни», туда где таятся подсознательные движения, где концентрируются ассоциативные связи, составляющие природную основу индивидуальности. Внимание Владимира Наумовича было направлено на поиск нужного самочувствия, живого проявления природы отношений. Для реализации этих целей, важным средством становилась аналогия, знакомая коллизия. То, что заставляет работать ассоциативное мышление. Но ведь и «действенный анализ» всего этого не чурается! Однако, он изначально привязан к заданности событийного ряда, к фиксированным творческим задачам и действию.
Анализ и реализация одновременно действия путем ассимиляции индивидуальности актеров и ситуаций, взяв этот синтез за основу создания конфликта – примета нового подхода, и нового метода.
В отличие от инструментария действенного анализа (события, эпизоды, куски, творческие задачи) ситуация вбирает в себя отобранные обстоятельства, завязывает их в проблему и толкает актера на личностный поиск выхода из ситуации.
Творческий метод передается из рук в руки, от педагога, режиссера к ученику. Чьи же руки передали Владимиру Наумовичу его метод? Я не смогла бы ответить на этот вопрос, если бы в 1980 году не вышла из печати книга «А.М.Лобанов. Документы, статьи, воспоминания». Впечатления от практического знакомства с явными приметами нового метода в процессе изучения этой книги стали переходить в теоретическое осмысление. В книге о Лобанове нет ни одного его высказывания о системе Станиславского и о его методе. Что это? Невнимание к фундаментальным открытиям мастера? Или - оппозиция? Неприятие входящей в официальную практику методики? А ведь Лобанов был современником Станиславского, работал долгое время в ГИТИСе, где М.О. Кнебель активно разрабатывала и утверждала метод Константина Сергеевича. А что если великое древо школы переживания в области метода имело еще одну ветвь, не изученную, но живую до сих пор? «А вы знаете какой-то другой метод?» - ответил однажды Г.А.Товстоногов вопросом на вопрос «считает ли он метод действенного анализа единственным в работе над спектаклем?». Читая стенограммы репетиций А.М.Лобанова не могу отделаться от мысли: а метод-то был! Не метод действенного анализа – иной. Чтобы понять истоки метода работы Владимира Наумовича – несколько цитат из книги о Лобанове.
«…такие люди не создают школы..»
«…у него не было метода»… (М.Туровская)
«…Александр Михайлович учился в школе Второй студии… Был учеником и последователем Станиславского… но тем не менее… (его – Н.Т.) метод работы значительно отличался от всего, что мне в жизни пришлось наблюдать. В ходе репетиций, казалось что метод у него свой собственный – «лобановский» (В.Якут.)
А вот что сам А.М.Лобанов говорил о своем подходе к работе над спектаклем: «Вы знаете очень много режиссеров, умеющих поставить спектакль. Я же занимаюсь тем, чтобы соединять людей, находящихся в различных ситуациях»… Так вот он признак метода – с и т у а ц и я. Еще несколько цитат: «Жизненная ситуация… основа режиссерской концепции». «Актеру не надо все время пребывать в «зерне» роли, оно еще не созрело… нужно пытаться играть ситуацию, проникать в самую суть». «С первого обращения… (необходимо – Н.Т.) разбираться в ситуациях пьесы». «Когда актер поймет, что эта ситуация в пьесе ему дорога, как могла бы быть дорога в жизни, когда он найдет свое подлинное чувство и темперамент, только тогда можно будет начать двигаться».
Почему «ситуация»? Почему не «предлагаемое обстоятельство»? Только потому, что «не пользовался терминами системы»? (Г.А.Товстоногов). Что такое ситуация? Это совокупность обстоятельств, положений обстановки. Совокупность! Не отбор, не вычленение по признакам или целям, а сово … купность. Органическое слияние обстоятельств пьесы, мыслей режиссера и т.п. с жизненным опытом актера, его личностными мотивациями и побуждениями, с его эмоциональной реактивностью, т.е. с природой индивидуальности. Ситуация – первая связь с миром будущего спектакля, и аналитическая, и синтезирующая одновременно.
В методе действенного анализа присутствует вычленение из потока предлагаемой жизни одного, главного компонента в качестве изначального признака – события. Не провоцирует ли расчлененность по событиям результативность и заданность? Не формирует ли направленность на психофизическое действие (как основной манок «жизни человеческого духа») на этакий театр «деловой» концепции? Ведь «действие – это еще не все. Необходимо добиваться соответствующих самочувствий». (А.М.Лобанов). Необходимо направить внимание на поиски живых человеческих отношений через «вкус к конкретно чувственному способу существования» (А.Гончаров), к подсознательному душевному движению.
Цель ситуативного способа мышления – «охватить актера, словно обручем» (А.М.Лобанов), побудить актера все внутренние проблемы роли решать самому, добиваться психофизического ощущения погруженности в мир спектакля через выявление его индивидуальности.
«Странный», «особый», «ни на кого не похожий», «лобановский» метод работы имел еще один ощутимый признак – а с с о ц и а т и в н о с т ь. Еще несколько цитат из книги:
«Он отправлял наше воображение к знакомым нам ассоциациям» (Е.Табачников). «От репетиций к репетиции возникали все новые образные определения, сравнения, ассоциации». (В.Л.Блок). «Через жизненные ассоциации и личный опыт артиста шаг за шагом к ассоциативной работе воображения, через сравнения, аналогию, характерный прием «странного метода». «…понять мысль…помогают аналогии…. Если прямой аналогии нет, ее нужно подобрать…аналогия нужна там, где трудно найти нужное самочувствие». (А.Лобанов). «Афористичность лобановских определений зачастую заменяло пространные рассуждения» (В.Комиссаржевский)
Итак, образные сравнения, аналогия, афористичность определений приводили в действие ассоциативный процесс, обеспечивали возможность разбудить внутренний мир актера, вызвать к жизни его собственные эмоции. Ассоциация… Как часто мы используем это понятие, не задумываясь и не подозревая о ее глубине и значимости. Ассоциация – связь между отдельными представлениями, при которой одно из представлений вызывает другое. Вот одно из любопытнейших размышлений Ф.И.Шмита, исследующего психологию искусства: «Сознание человека, его память хранят впечатления и образы не порознь и в беспорядке, а в многочисленных перекрестно – связных группировках – ассоциациях. Впечатления и образы, именно потому, что они накапливаются в результате жизненного опыта каждого и именно потому, что впечатление производят только те периферические раздражения, которые не безразличны, т.е. способны вызвать моторный разряд энергии, - конкретные впечатления и образы… могут стать действенными в любой момент, когда они воскресают в сознании под влиянием непосредственно вновь прибывающих впечатлений или внутри мозговой работы» (Ф.И.Шмит «Искусство». Основные проблемы теории и истории» «ACADEMIA», Л., 1925 г.,стр.31-32).
Направить «внутри-мозговую работу» на поиск ассоциативных связей через постижение ситуаций – суть «странного» метода.
Для сравнения: поиск психофизический взаимодействий через событийное постижение – это практика метода действенного анализа. Понятно, если «лобановский» метод нацелен через ассоциативное мышление прежде всего на самочувствие актера, то и требование к индивидуальности актера были особые, первостепенные. Не отдельно анализ пьесы, а потом его реализация через актеров, а изучение, постижение индивидуальностей, направление их по ситуациям пьесы. «Ах, если бы вы играли самих себя, это было бы необыкновенно интересно» (А.М.Лобанов).
Как же можно согласится с тем, что у Лобанова не было метода. Метод был и есть! С и т у-а т и в н о-а с с о ц и а т и в н ы й. Ситуацией, как «обручем», охватывал актера, посредством и с помощью ассоциативного мышления, вскрывал природу отношений индивидуальностей, сутью которых являлся объединяющий людей, созидающий конфликт.
Через годы В.Н.Левертов работал со студентами в том же направлении. С каким трудом и настойчивостью высекал из студентов крохотные кирпичики живых ассоциативных проявлений, как виртуозно выстраивал понятную для студентов ситуацию, живые связи, убедительную логику, близкую жизненному опыту студентов, мотивацию в этюдах, в отрывках, в пьесе. Гигантский труд! В результате «Объем, многозначность, непрерывность действия, простор для импровизаций, чувственность… «свободное дыхание!» - Так говорил Владимир Наумович.
Метод … а из чьих рук? Ах, расспросить бы об этом его самого! Может быть, мои размышления и не нашли бы у него подтверждения? Не знаю… но вижу теплый, слегка ироничный взгляд, слышу голос очень серьезный и настойчивый: «Что, пишите? Пишите, пишите… Это надо изучать. И – зу- чать!»
Тагунова Наталья Борисовна
Ассистентура-стажировка 1979-1981 гг.
Курс Л.И. Касаткиной, С.Н.Колосова
Тагунова Н.Б.
Тел. 8-926-388-29-50