Много лет назад в театральных кругах Москвы из уст в уста с ухмылкой передавали следующую эпиграмму:
«Не знал я, бедный Еремеев,
Что я всю жизнь читал евреев»...
Автор эпиграммы, актер и режиссер МХАТа, известный московский острослов Леонид Еремеев произнес ее после премьерного спектакля в драматическом театре им. Станиславского «Грибоедов», в котором роль великого русского писателя с большим успехом сыграл Борис Левинсон. Творчество этого большого актера заслуживает отдельного разбора и справедливой оценки, но сейчас я хочу рассказать об истинной мишени эпиграммы Еремеева – об актере Московского театра им. М. Н. Ермоловой Всеволоде Семеновиче Якуте, незадолго до того буквально потрясшем театралов столицы вдохновенным исполнением заглавной роли в спектакле «Пушкин». Именно его игра сделала поставленную режиссером В. Комиссаржевским пьесу А. Глобы подлинным событием. Популярность В. Якута взлетела до небес, а спектакль игрался в течение семнадцати (!) лет с неизменным и даже возрастающим успехом. Но это было уже в середине творческой жизни артиста, а начало ее не предвещало ничего радужного, ибо началась она даже не на сцене, а на цирковой арене в заштатном городке Новониколаевске, будущем Новосибирске.
Родился Всеволод Семенович в Бодайбо и первые пятнадцать лет своей жизни прожил в Якутии. Очень любил рисовать и после окончания девятилетки решил поехать в Москву учиться на художника. Родные снабдили мальчика небольшими деньгами, дали мешок пельменей на дорогу и посадили на маленький пароходик, идущий вверх по Лене. До Иркутска, где надо было пересаживаться на поезд, Всеволод добрался благополучно, но уже в дороге, не доезжая до Новониколаевска, обнаружил, что у него украли все вещи, деньги и билет до Москвы. Контролеры ссадили мальчика с поезда, и он побрел по незнакомому городу, пока не остановился у афиши «Цирк-шапито».
Что такое «шапито» он не знал и загорелся желанием обязательно проникнуть в этот цирк. Это ему удалось, и после представления, совершенно поразившего его воображение, он пошел за кулисы и попросил взять его на любую работу. Его приняли подсобным рабочим – кормить животных, от лошадей до цирковых гусей.
Рабочим Всеволод пробыл недолго. Его привлекла профессия клоуна, и он стал учиться у старого циркового артиста этому древнему и вечно молодому ремеслу. Вскоре его стали выпускать на арену, сначала в утренниках, а потом и в вечерних представлениях. Клоунские трюки были стары, как мир: он падал, обсыпал кого-то мукой, кто-то обсыпал его.
Но клоун должен был уметь делать все – и акробатические сальто, и фокусы, и эквилибр, не говоря уже о хотя и примитивном, но все же актерском мастерстве. Впоследствии Якут с благодарностью вспоминал нелегкую цирковую школу, особенно жесточайшую внутреннюю дисциплину циркачей, не позволяющую им уходить с арены до тех пор, пока номер ими не исполнен полностью. Это стало для него законом, и он становился порой совершенно невыносимым для партнеров, но не мог уйти с репетиции, если в сцене оставалось что-то неясное. И еще он считал, что именно от цирка идет у него ощущение необходимости жанрового, стилевого многообразия как одного из законов актерского творчества.
«До сих пор, когда я прихожу в цирк, который люблю и считаю замечательным искусством, праздником человеческого мужества и виртуозного мастерства, я каждый раз с волнением жду момента, когда вспыхнет яркий свет, раздадутся звуки марша и начнется парад-алле...» – писал Якут много лет спустя.
На манеже молодой клоун отработал всего один сезон, когда в Новосибирске появился Господин Случай в обличье проезжей группы артистов Театра Революции во главе с М. А. Терешковичем. Они пришли в цирк на утреннее представление. После него Макс Абрамович с двумя коллегами зашел за кулисы и, попросив клоуна снять грим, долго рассматривал юношу без рыжего парика и краски, а затем неожиданно спросил: «А ты в театре хочешь работать?» – «Хочу!» – недолго раздумывая ответил Всеволод.
«Вот тебе мой адрес в Москве», – сказал Терешкович и дал визитку.
Прошло несколько месяцев, и молодой клоун, поднакопив денег на дорогу, простился с цирком и отправился в Москву. Ранним утром явился по адресу и разбудил Терешковича. Тот со сна долго не мог понять, кто этот странный парень. Тогда юноша... встал на голову, а затем прошелся на руках. Макс Абрамович сразу вспомнил новосибирского клоуна, расхохотался и впустил его в дом.
М. Терешкович руководил в то время Театром-студией им. А. В. Луначарского и направил туда для обучения и Всеволода, однако на экзамене тот с треском провалился... Тогда Макс Абрамович устроил его помощником режиссера. Жить было негде, денег не было, он ночевал под Устьинским мостом... И снова в его жизнь вмешивается Случай.
В день спектакля «Инженер Мерц» неожиданно заболел артист Ю. Кольцов, игравший одну из главных ролей. Заменить его было некем, и от безвыходности режиссер Власов предложил сыграть эту роль – полковника-белоэмигранта – Всеволоду. Тот сразу согласился, так как знал наизусть все роли и мизансцены. После спектакля, прошедшего с большим успехом, Терешкович сказал: «Зачисляю тебя в труппу. Кстати, как твоя фамилия?» – «Абрамович», – ответил Всеволод. Макс Абрамович замялся, потом неожиданно спросил: «А откуда ты родом?» – «Из Якутии», – последовал ответ. На следующий день был вывешен приказ с распределением ролей в новом спектакле «Коварство и любовь» Шиллера. Там Всеволод прочел: «Фердинанд – артист Всеволод Якут». Так будущий Народный артист СССР обрел свое славное сценическое имя и свой театральный дом, которому служил долгие шестьдесят лет. С полным основанием можно сказать, что у них – артиста Якута и театра имени Ермоловой – общая биография.
В 1931 году Театр-студия им. А. Луначарского слился с театром им.
М. Н. Ермоловой, затем через какое-то время объединенный коллектив слили со студией под руководством Н. Хмелева. Когда М. А. Терешкович ушел из жизни, для молодого Якута самым большим художественным авторитетом и учителем стал великий актер МХАТа Николай Павлович Хмелев, тем более, что с ним в театр пришла замечательный педагог-новатор, актриса Художественного театра Мария Осиповна Кнебель. Благодаря им, ученикам Станиславского и Немировича-Данченко, получил Якут прекрасную актерскую школу.
И Терешкович, и Хмелев давали молодому актеру самые разноплановые роли – большие и совсем маленькие, стариков и юношей, классикик и современные. Впервые Москва заговорила об актере Якуте после премьеры комедии Шекспира «Как это вам понравится», поставленной Хмелевым и Кнебель. Образ Жака, созданный Якутом, определил подлинный масштаб его дарования. Он потребовал не только мастерства, но и умения мыслить на сцене. Для этого самому надо было быть личностью.
Совсем другим предстал Якут в спектакле «Старые друзья», который поставил новый руководитель театра, замечательный режиссер А. М. Лобанов: скромный юноша, почти мальчик, потерявший на войне руку, он щедро дарил друзьям душевные качества, которые составляли его существо, – порядочность, умение быть верным в дружбе и любви. В Шуре Зайцеве-Якуте зрители узнавали своих сверстников – фронтовиков, пришедших с войны. За этот спектакль В. Якут, вместе с постановщиком и другими коллегами, был удостоен Государственной премии.
Следующая нашумевшая работа Якута была в постановке А. Лобанова «Бешеные деньги». Он играл Кучумова, старого аристократа-рамоли, полубезумного старика, у которого в мыслях все сместилось и перепуталось: время, география, люди. Однако актер играл не старость, а человеческое убожество. Было невероятно смешно, как Кучумов старался выглядеть импозантно и молодцевато, но при этом двигался как на шарнирах и не выговаривал доброй половины алфавита. Актерское мастерство Якута в этой роли было поистине совершенным.
На пике творческого пути, во всеоружии таланта и виртуозной актерской техники Всеволод Якут «встретился» с главной ролью своей жизни – образом Пушкина.
Это был его «звездный час» в театре. Не просто роль – судьба. Якут-Пушкин стал настоящей эпохой не только в биографии актера, но и в театральной жизни столицы.
Работал Якут над образом великого поэта долго и мучительно трудно. Искал грим, сделал десятки карандашных набросков. В читке роль шла легко, а в действии актера что-то тормозило, мешало ему. Он нервничал, дергал партнеров. Выпуск спектакля задержали. Якут поехал в Ленинград, в Музей-квартиру А. С. Пушкина на Мойке. Актеру, по его просьбе, разрешили остаться в кабинете поэта после закрытия музея.
Якут рассказывал: «Все ушли. Горела свеча... На камине стояла миниатюра Натали кисти Брюллова. Книги, диван, снег за окном. И вдруг мне стало страшно… Я сердцем почувствовал трагическое одиночество поэта в мире. Натали уехала на очередной бал, где-то Николай I, Бенкендорф, Дантес, Геккерн. Подметные письма. Круг замкнулся. И выхода уже нет... В те минуты Пушкин стал для меня очень близким, родным человеком. В работе над образом эти часы, проведенные в его кабинете, сыграли решающую роль. Я вернулся в Москву освобожденным от оков, которые сковывали меня прежде».
С первого же появления Пушкина-Якута в сцене на балу, когда он в камер-юнкерском мундире медленно шел на рампу, зритель безоговорочно и восторженно принимал его. И дело было не только в портретном сходстве (Якут взял в основу грима портрет работы Кипренского). Несмотря на величие гения, его Пушкин был прежде всего человеком – ранимым, страдающим. Якут смело трактовал своего Пушкина – солнечного, вдохновенного. И играл его превосходно. Эту свою звездную роль Всеволод Семенович сыграл 840 раз, и каждый раз – как в первый...
С роли Пушкина у Якута начался новый этап. Он утвердил себя как актер романтического склада, и в его творчестве все отчетливее зазвучала тема талантливого, мыслящего, неординарного человека. Таким был его адвокат Ахмед в «Чудаке» – пьесе турецкого поэта Назима Хикмета, горячо принятый не только публикой, но и автором, жившим тогда в Москве, с которым впоследствии они стали друзьями. Таким был и Раскольников в «Преступлении и наказании» Достоевского, также ставший событием в театральной жизни.
В газетной статье невозможно не только разобрать, но даже перечислить актерские создания Всеволода Якута за его долгую жизнь на сцене Ермоловского театра. Нужно подчеркнуть, что в течение нескольких десятилетий его труппа была одной из сильнейших в столице, но и среди его «звезд» Якут пользовался величайшим авторитетом. Заслужил он его не только блестящим успехом своих лучших ролей, но и редкостно ответственным отношением к актерской работе – и в крупном, и в мелочах.
Например, он, играя серьезную роль, обычно «собирался» в одиночестве, и в эти минуты его небезопасно было отвлекать пустяками. И когда один недалекий партнер решил его разыграть и сделал это перед выходом Якута на сцену, то получил весомую оплеуху... Правда, потом Всеволод Семенович извинился, сожалея о своей горячности, но после того уже никто не рисковал проявлять неуважение к этой его особенности.
Вел он себя в коллективе просто, но почему-то в его присутствии возникало какое-то электрическое напряжение, особенно у молодых артистов, хотя он любил молодежь и никогда не отказывал в совете и помощи. И среди актеров родилось злое, скорее завистливое, закулисное прозвище знаменитого артиста – «Я-культ»...
К выпивке (чего греха таить!), достаточно распространенной в актерской среде, Якут относился без пуританской нетерпимости, но при условии, что она совершенно исключена во время репетиции, и тем более – спектакля. А после вечернего представления мог позволить себе рюмочку-другую в компании друзей. Смешно, но хотя евреи – народ непьющий, почему-то среди ермоловцев оказалось несколько друзей, любящих выпить в свободное время: актер и режиссер Семен Ханаанович Гушанский, дирижер Яков Борисович Кирснер, скрипач Гриша Черный иногда собирались в рубке радиста Валентина Натановича за бутылочкой и «травили» театральные байки. И к ним на огонек заглядывали Якут и общий любимец, знаменитый поэт Михаил Аркадьевич Светлов. Шутки, смех, подначки, анекдоты, раскованная атмосфера дружеского общения...
Шли годы. Якут старел, но менять амплуа романтического героя не было нужды – стариков он играл всегда, даже в юности. И по-прежнему в любой роли искал доброе начало, нес со сцены любовь к людям, и все так же волнующе звучал его неповторимый голос с только ему присущей «напевной» интонацией.
В последний раз Москва заговорила об артисте Всеволоде Якуте, когда в пьесе Р. Харвуда «Костюмер» он сыграл старого трагика из провинциальной шекспировской труппы, сбежавшего во время авианалета из больницы, чтобы сыграть последнего в своей жизни короля Лира. Ставил пьесу режиссер Евгений Арье – тот самый, что через много лет привез в Москву свой знаменитый израильский театр «Гешер». Партнер Якута по этому спектаклю, Зиновий Гердт, вспоминал: «Якут был ортодоксален, педантичен, пунктуален до противности. Никто не смел сделать ему замечание, но молодого режиссера Евгения Арье он слушался, как ребенок. Большей жажды репетировать и играть я не видел ни у кого. В нем чувствовалось какое-то средневековое рыцарство. Он пробовал сниматься в кино, но обратиться в другую веру не смог. И Богиня театра, за истовость служения ей, подарила ему классическую смерть Артиста – в кулисах, после прекрасной генеральной репетиции («Калигулы» Камю).
Сейчас артисту Якуту было бы 90 лет.
Григорий Спектор





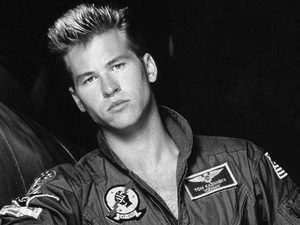



обсуждение >>