Мы вспоминаем волнующий образ матроса-пулемётчика из "Последнего решительного". С большим драматическим накалом сыграл его Н.Боголюбов...Всё яростней становился вражеский огонь, падали бойцы, роняя из ослабленных рук винтовки,- действие нарастало в своей трагической напряжённости. И вот на сцене остался только один живой боец - пулемётчик Бушуев. Припав лицом к кожуху пулемёта, как бы слившись с ним всем телом, боец стрелял во врагов до роковой минуты... Смертельно раненый, он медленно выпрямляется во весь рост и, покачиваясь, идёт к большой чёрной доске, берёт кусок мела. Из репродуктора гремят аккорды Скрябина, боец хватается одной рукой за доску, а другой пишет. Порывистыми и сильными движениями, кроша мел, он выводит одну за другой цифры 1, 6, 2 и ещё шесть нулей. Эта цифра - 162 миллиона - народ Советского Союза. Силы бойца иссякают, но нечеловеческим напряжением воли он вновь выпрямляется и широким рывком выводит знак минуса и цифру 26 - это число погибших красноармейцев. Затем на полный размах руки идёт широченная итоговая черта, и начинается лихорадочный, бешено стремительный подсчёт... Только бы успеть, только успеть вычесть мёртвых из числа живых... Дыхание почти пресекается, но нужно выкрикнуть всей силой лёгких врагам эту цифру, которая движется на них в бой. Мел гремит пулемётной очередью по доске, цифры, громоздясь одна на другую, смыкаются тесным строем. Конвульсия смерти то останавливает руку бойца, то придаёт ей новую силу... Поставлено последнее число, как победа, как подвиг. Мел выпал. Вот она, великая армия народа, готовая подняться на защиту социалистической республики. Боец обращается в зал:" Кто готов заменить павших?" И зал поднимается как один человек... Ставя задачу активного пропагандистского воздействия, режиссёр В.Э.Мейерхольд требовал от актёра строгого отбора типических черт, сознательного, рационального, технологически выверенного творчества и так добивался огромного эффекта правды.
Г.Н.Бояджиев
"Душа театра", Москва, "Молодая гвардия", 1974 г.
Я часто вспоминаю Николая Боголюбова в "Последнем решительном" и финальную сцену спектакля, когда гибнет в пограничном бою матросская застава и звучит Третья соната Скрябина, и бьёт, захлёбываясь вспышками огня, прямо в зал пулемёт, а потом вырывается из репродуктора весёлый джаз и смертельно раненый старшина Бушуев - Боголюбов пишет, теряя сознание, мелом на школьной доске, неизвестно как попавшей на заставу, пишет, подсчитывая, сколько останется в стране миллионов, если вычесть из них тех, кто здесь погиб. Это была сцена - пророчество. Я часто вспоминал её во время войны. Мейерхольдовский актёр творил образ. Образ этот существовал по законам той театральной правды, того сценического "климата", который создавал в том или ином спектакле Мейерхольд. Этот образ говорил со зрителем на языке Мейерхольдовского театра, в котором пластика порой была более красноречива, чем слово, а музыка вела к пониманию сокровенной сути спектакля. Но характер оставался характером. Он не становился натуралистической копией, но и не был абстрактной костюмированной идеей или биомеханизмом. Биомеханика Мейерхольда была образным выражением человеческой сути.
В. Г. Комиссаржевский
"День театра". Издательство "Искусство", Москва, 1971 г.






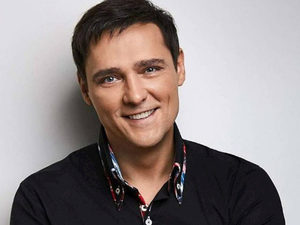





обсуждение >>