Родилась 27 октября (9 ноября) 1907 года в Перми.
Заслуженная артистка РСФСР (1951).
Народная артистка РСФСР (1957).
Один из организаторов и актриса Пермского ТЮЗа (1926-1928).
В 1931 году окончила Ленинградский техникум сценических искусств.
С 1930 года - актриса Ленинградского ТЮЗа, где исполняла роли детей. Её герои-мальчишки - люди горячего сердца и большой мечты.
Ушла из жизни 11 мая 1999 года в Петербурге.
Гекльберри Финн - «Том Сойер», Марк Твен;
«Винтовка № 492116», А.А.Крон;
Тимошка - «Тимошкин рудник», Л.Макарьев;
Сёма (маршал Будённый в детстве) - «Детство маршала», И.Е.Всеволожский;
Гаврик - «Белеет парус одинокий», В.П.Катаев;
Ваня Солнцев - «Сын полка», В.П.Катаев;
Пашка - «Пашка», Л.Ф.Макарьев;
Кот Базилио - «Золотой ключик», А.Толстой;
Шура - «Красный галстук», С.В.Михалков;
Старуха - «Сказка о рыбаке и рыбке», А.С.Пушкин (реж. Павел Вейсбрем);
Феклуша - «Гроза», А.Н.Островский.
Макс - "Мой закадычный враг" (реж. Павел Вейсбрем)
последнее обновление информации: 10.11.24
...И не случайно уже с первых дней существования ТЮЗа на его сцене появилась целая плеяда молодых травести. Среди них — Нина Казаринова.
Моя зрительская память сохранила воспоминания о великолепной актрисе и созданных ею образах в 1930–1940 гг. В те годы весь репертуар ТЮЗа состоял как бы из трех составляющих: классика и инсценировки классики (не без элементов модернизации — мало какой театр обходился тогда без этого), пьесы или инсценировки советских писателей и пьесы, написанные Макарьевым, Горловым, Дэлем-Любашевским и другими — то есть самими тюзянами, как они называли и еще продолжают называть себя. Казаринова везде играла бойких, задорных мальчишек, как правило, не очень причесанных и кое-как стриженных.
Пьес было много, ролей было много, но особенно сохранились, по неписанным законам памяти, некоторые (надеюсь, из числа тех, которые вошли в золотой фонд и самой Нины Казариновой, и довоенного ТЮЗа).
…Одно из первых тюзовских воспоминаний — «Том Сойер» (если не изменяет память, создание тандема А. Бруштейн — Б. Зон). Н. Казаринова — Гекльберри Финн. Навсегда запомнились страшная сцена на кладбище и — по контрасту — веселые школяры в залитом солнцем классе.
А. Крон. «Винтовка № 492116». Имена героев, конечно, забылись. Но навсегда остался в памяти последний «кадр»: в свете прожектора (кажется, под знаменем) — герой пьесы.
Л. Макарьев. «Тимошкин рудник» — захватывающая пьеса с полудетективным сюжетом (что-то о вредителях), Тимошка — Казаринова. Интересно, что эти и многие другие тюзовские постановки тех лет, несмотря на их явную идейную направленность, не выглядели агитками. Думаю, потому, что ставил их А. Брянцев или его соратники, а играли в них такие великолепные травести, как Н. Казаринова.
В конце 30-х обстановка в стране изменилась: идейная сторона должна была быть видна, что называется, за километры, акценты как-то сместились (или я стал старше) — и репертуар стал «выдержанным» на 200 %. Хотя и тут Брянцев сохранил достойный уровень. Н. Казаринова сыграла Ваню Солнцева в «Сыне полка» и Гаврика в «Белеет парус одинокий» Катаева. А в совсем уж предвоенные годы (может быть, после раздела ТЮЗа на брянцевский и зоновский) Нина Казаринова сыграла роль юного Семена Буденного в пьесе Всеволожского «Детство маршала». Пожалуй, эта постановка была моим прощанием со старым ТЮЗом и потому запомнилась достаточно ярко, хотя в пьесе было немало сахарного сиропа. Это была и моя последняя встреча с великолепной актрисой родного ленинградского ТЮЗа Н. Казариновой.
Я назвал лишь несколько постановок, в которых она играла. А были еще и главная роль в пьесе Макарьева «Пашка», и Кот Базилио в «Золотом ключике» по А. Толстому, и очень много других. Я не погрешу истины, если напишу, что Казаринова была актрисой, без которой просто невозможно представить ТЮЗ на Моховой.
ТЮЗ был для нас не только третьим домом, но и второй школой. Он воспитывал и, надеюсь, воспитал в ленинградских ребятах много достойных качеств, давая уроки благородства, мужества, свободолюбия, дисциплинированности, борьбы за правду, ненависти к нацизму, к фашизму. Может быть, это тривиально, но это так.
. . . Когда заканчивался спектакль и зажигался свет, в дверях появлялся тюзовский педагог (всегда один и тот же) и приглашал к выходу учеников пригородных школ (называя их номера), потом назывались школы дальних городских районов, и так — до центральных районов Ленинграда. Мы спокойно покидали зал, получив за вечер много уроков, так необходимых школярам.
. . . Шли годы, ТЮЗ переживал разные времена (что естественно для любого живого театрального организма), постепенно уходили старые тюзовские актеры — одни, как писал А. Галич, в князья, другие — в никуда. Ушла от нас и Нина Николаевна Казаринова. Думаю, каждый из школьников предвоенной поры вправе сказать: и она вместе с нашими школьными учителями и со своими товарищами по театральным подмосткам учила нас. Как показала жизнь, как свидетельствуют военные годы, поколение, воспитанное довоенным ТЮЗом, оказалось достойным.
Юрий ДМИТРЕВСКИЙ.
Май 1999 г.
Она была театральным кумиром нашего довоенного детства. Когда первый Том Сойер ТЮЗа на Моховой, Татьяна Волкова, ушла со своим учителем Зоном в Новый ТЮЗ, а первый Гекльберри Финн — Клавдия Пугачева уехала в Москву, в брянцевском ТЮЗе остались две замечательные травести: Александра Охитина и Нина Казаринова.
Мы — школьники 5–6-го класса больше любили Казаринову, потому что она играла Буденного, а Семен Михайлович Буденный в предвоенные годы был равен по популярности разве что д’Артаньяну из «Трех мушкетеров». Впрочем, Буденный умер развенчанным, а д’Артаньян остался бессмертным.
Память о пареньке Семке из спектакля ТЮЗа «Детство маршала» нисколько не потускнела от развенчания ее жизненного прототипа, и несколько лет назад мы с Ниной Николаевной в Комарово пели на два голоса песню Стрельникова:
Не дают песню петь всею грудью,
Ее шепотом жадно поют.
С этой песнею падают люди,
С этой песнею люди встают.
— Как же ты помнишь слова? — спросила меня Казаринова. — Мне было тринадцать лет, и я запомнил, как вы пели, — ответил я. Она отвернулась и заплакала.
Я не могу сказать «мы», слишком мало нас осталось, зрителей довоенного ТЮЗа на Моховой. Помню и Тимошку из «Тимошкина рудника» — первый героический детектив Леонида Макарьева, и «Винтовку» Александра Крона, и, конечно же, Гаврика из «Белеет парус одинокий». Спектакль в ТЮЗе поставила Наталья Сергеевна Рашевская. Мы — школьники 155-й школы во главе с Кирой Лавровым (ныне художественным руководителем БДТ им. Товстоногова) шли культпоходом на спектакль с большим предубеждением. Слишком мы любили роман Валентина Катаева. Гаврик Чернованенко Нины Казариновой убедил нас полностью. Она всегда убеждала своими героическими мальчиками.
Играла Казаринова мальчишек и после войны, когда делать этого, наверное, не следовало. Но она не верила в свой актерский переход, и напрасно. Старуху в «Сказке о рыбаке и рыбке» в постановке волшебника Павла Карловича Вейсбрема она сыграла превосходно, но она любила только своих мальчишек.
Я как-то позвонил и предложил сделать передачу по песням Николая Михайловича Стрельникова, которые пели ее герои. «Не надо, не береди душу!» — резко ответила она. Она не хотела прощаться со своими мальчишками, да и наша память до сих пор бережет образы этих кумиров довоеннного детства.
Александр БЕЛИНСКИЙ.
Май 1999 г.
Все живут воспоминаниями детства. Не случайно при З. Я. Корогодском существовал праздник театра, приучения к нему — ритуал посвящения в зрители.
Моим первым спектаклем был «Белеет парус одинокий», где Нина Николаевна Казаринова играла Гаврика вместе Л. П. Жуковой — Петькой. Это был уникальный дуэт. У меня до сих пор сохранилось ощущение, что я помню все, вплоть до мизансцен. Та жизнь, которая была на сцене, поражала прежде всего накалом искренности. Было полное единение тебя, сидящего в зале, и того, что происходило на сцене.
Нина Николаевна была потрясающий человек. Она ни секунды не находилась в состоянии равнодушия, присутствующего сейчас везде и у всех. Говорили, что она приходит и ворчит, что она постоянно всем недовольна. Но я сейчас понимаю — это было вызвано в ней желанием, чтобы все было как можно лучше, и раздражением от непонимания: ну как же можно выполнять свою профессиональную работу плохо, не доводить ее до конца. Кажется, именно это и передавалось мне в ее Гаврике из «Белеет парус одинокий» — острое ощущение несправедливости и желания воздать за эту несправедливость.
Нам очень повезло, когда мы — я, Коля Иванов, Саша Хочинский и Витя Федоров — попали в 60-м году в драматическую студию при ТЮЗе. Там был потрясающий семейный очаг, сообщество, содружество. Тогда в ТЮЗе работали Павел Карлович Вейсбрем, удивительный режиссер, Макарьев, сам Брянцев. Вообще, если вспомнить тех людей, которые работали в ТЮЗе и при Брянцеве и при Корогодском — авторов, композиторов и прочих, становится понятно, что тогда театр был местом сосредоточения элиты, как бы сейчас сказали, но элиты настоящей, культурной, интеллектуальной. Попав в этот коллектив, мы, как все дети, не осознавали, что было рядом с нами. И нас — молодых, неопытных эта семья встретила с такой нежностью, заботой, отдачей! Внутри театра в то время создавалась уникальная атмосфера. А ведь очень важно, с каким ощущением ты выходишь на сцену.
Нина Николаевна была естественным центром той актерской семьи. И примером человека, не прощающего несправедливости, равнодушия, легкого, бездумного отношения к жизни, к работе, к людям. Я думаю, это ее самое главное качество, поддерживавшее ее до последних дней. И такой же отдачи она требовала от всех, на что часто обижались, не понимая, что она просто каждую секунду просит не врать. Ни себе, ни друг другу. И жить по совести.
Эта жизненная энергия и непримиримость со злом, которая всегда ей была присуща, желание все обустроить и сделать все лучше — неразделимы на человеческое и актерское. Это велико и высоко ценилось, ценится и будет цениться.
Уникально жизнелюбивый человек, она принадлежала поколению начала двадцатого века. У этих людей был особенный физический, моральный и психологический заряд, который сохранился, несмотря на все испытания, через которые им довелось пройти. Фраза «революционное поколение» вызывает дурные ассоциации, но это правда было поколение маленького трубача, который слышал звук, пронзающий насквозь, будораживший и заставлявший идти вперед.
Заканчивала она свою актерскую жизнь в конце 70-х, перейдя с амплуа травести на возрастные роли. В «Трень-брень» играла бабушку, и тогда настоящее тепло шло со сцены через рампу в зрительный зал.
Нина Николаевна открыла в Петербурге эпоху травести. Когда, уже будучи плохо видящей и больной, она прочла, одна за двоих, на юбилее ТЮЗа диалог Петьки и Гаврика, зал встал и приветствовал ее стоя, несмотря на все разговоры о том, что сейчас другое время и иной способ игры. Это был ее театр и если бы он не назывался «театр Брянцева», то можно было бы назвать его «театром Казариновой».
Ирина СОКОЛОВА
Июль 1999 г.








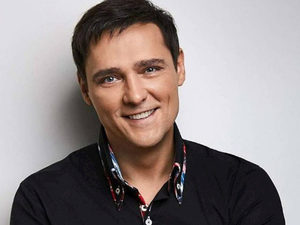

обсуждение >>